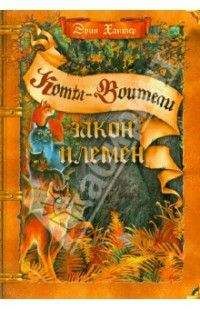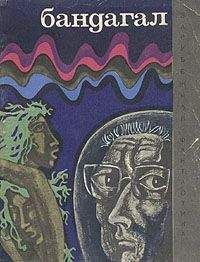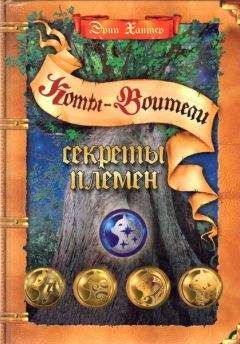Самуил Алёшин - Воспоминания "Встречи на грешной земле"
В 1932 году нашумела акимовская постановка «Гамлета» на сцене театра имени Вахтангова. Все было очень логично и остроумно, однако парадоксально противоречило традиционным толкованиям Шекспира. И очень смешно, почти до самого конца.
Гамлета играл толстый Горюнов. (Вообще-то Бербедж, исполнявший эту роль в «Глобусе», был тоже толстоват. Но последующие неписаные правила требовали, чтобы Гамлет отличался стройностью, меланхоличностью и уж,
во всяком случае, не шокировал зрителя жирным животом, а также широкой улыбкой.) Тень отца Гамлета изображал тоже Горюнов, мистифицируя окружающих тем, что гудел утробным голосом в какой-то сосуд.
Офелия не сходила с ума, а находилась в подпитии, в каковом виде и тонула.
Король — его играл худощавый в те годы Рубен Симонов, — позируя художнику, стоял на возвышении широкоплечий и величественный в роскошном облачении. Но в нужный момент он покидал это облачение (а оно продолжало стоять), сбегал по лестнице, и красная мантия следовала за ним, повторяя его движения, даже когда король был уже за кулисами.
Все это и многое другое в постановке Акимова однако имело смысл, а не просто было смешным. Но в конце Шекспир все же опрокидывал Акимова кровавым финалом. Ибо, когда трупы, смех исчезает.
Пресса, само собой, разразилась критическим залпом. Шекспироведы были оскорблены. Публика — в растерянности. Но с тех пор я видел немало Гамлетов, и среди них были вполне достойные (например, Брука — Скофилда и Козинцева — Смоктуновского), а все же акимовский... Особенно после того как обнажилось, что такое власть и что за люди подчас стоят у руля. Так что, может быть, если бы Шекспир сегодня посмотрел акимовский спектакль, он, глядишь, и сказал бы: «Смотрите-ка, столетия проходят, а оказывается, ничего не меняется?!»
Вместе с тем справедливость требует отметить, что, когда дело касалось подлинно лирических сцен, талант Акимова мог ему изменить. Либо он решал эти сцены сентиментально, либо пародийно. («А что, если во время объяснения в любви мы засунем под кровать случайного свидетеля?»)
Так или иначе, но постановки Акимова неизменно вызывали у его поклонников восторженные отклики, а у противников — резкое осуждение. И никто не уходил со скучающей миной.
Как художник Акимов тоже был оригинален. Его руку отличишь всюду — и в декорациях, и в портретах, и в
иллюстрациях, и в плакатах. Скажем, в плакатах к спектаклям Николай Павлович никогда не ограничивался только информацией, а всегда давал намек на режиссерское решение постановки. И в декорациях умел подчеркнуть выразительной деталью свое отношение к происходящему. (К примеру, в «Школе неплательщиков» спинки стульев заканчивались двумя поднятыми ладонями.)
Портреты, которые он писал, носили обязательно «акимовский» характер. Нет, это были ни в коем случае не карикатуры, но неуловимая усмешка художника почти всегда присутствовала. Они были похожи на оригинал, но как бы при этом говорили: не относитесь уж чересчур всерьез к самому себе.
Вообще, что бы ни делал Акимов, во всем чувствовалась его индивидуальность. Читаешь его статьи и книги — слышишь его голос, манеру говорить, шутить. Всегда вежлив — мне ни разу не привелось слышать, чтобы Акимов кому-нибудь грубил. Но его язвительная вежливость в споре, я бы даже сказал: предупредительная язвительность — действовала безотказно. Была убедительней любого нажима.
И все это, кстати, импровизировалось по ходу выступления или беседы, а потому особенно подкупало, ибо чувствовалась прелесть свежести.
Например, я помню, как на одном из совещаний, которое вела тогдашний министр культуры Фурцева (далеко не худший человек из тех, кто занимал этот пост), она прерывала всех репликами, хотя требовалось точное соблюдение регламента. Дошла очередь и до Акимова. Фурцева и его прервала несколько раз. И тогда Акимов, несколько скосив голову набок, заметил: «В следующий раз, Екатерина Алексеевна, я обязательно захвачу с собой шахматные часы. И буду переключать их, когда станете говорить вы». Раздался смех присутствующих, и более Фурцева в этот раз никого не перебивала.
На каком-то другом совещании, где начальство призывало всех в очередной раз «идти вперед», Акимов, выступая, сказал: «Нас только что тут призывали идти вперед. А я хотел бы знать — с какой целью? Идите, дескать, а мы пойдем за вами? Или мы просто любим стрелять по движущимся мишеням?»
Было и такое его выступление, когда Акимов, услышав тривиальную сентенцию об опасности того, как бы зритель, увидев что-то дурное на сцене, не стал, по причине заразительной силы искусства, этому подражать, заметил: «А вот Подколесин в гоголевской «Женитьбе», чтобы избежать брака, выпрыгнул в окно. И, хотя с тех пор прошло более века, это никак не отразилось на рождаемости».
В те годы цензура заставляла всех ломать голову над проблемой комедии, которая, как известно, без острого слова не может обойтись. А именно оно-то и было нежелательно. Предлагалось множество вариантов. Акимов сказал: «Есть радикальное решение. Играть комедию при пустом зале».
Ну, а теперь о том, как состоялась наша встреча и что этому предшествовало.
Мое знакомство с Николаем Павловичем началось в 1947 году.
Случилось так, что в войну, в 1942 году, в Сталинграде я написал пьесу «Мефистофель». Вернувшись в Москву — дилогию о Гоголе и комедию о Дон Жуане. Стал после войны ходить с ними по театрам. Безуспешно. Но в Камерном театре тогдашний завлит Симон Дрейден заинтересовался пьесой «Мефистофель» и показал ее художественному руководителю театра Александру Таирову. Пьеса ему понравилась, и состоялась встреча, за которой мог последовать практический выход. Но в это время театр разгромили и Таиров умер. А Дрейден уехал в Ленинград, захватив с собой мои пьесы, которые показал там Акимову — худруку театра Комедии.
Пьесы Акимову пришлись по душе, и мне передали, что скоро театр Комедии приедет в Москву на гастроли и тогда Акимов хотел бы со мной встретиться.
Так и случилось. Театр приехал, я сходил на один из их спектаклей, а после него, вечером, поехал в гостиницу «Москва», где остановился Николай Павлович со своей женой, актрисой того же театра Еленой Владимировной Юнгер.
И вот я в их номере. Юнгер отдыхает в постели, разметав по подушке роскошные черные волосы, а Аки-
мов, скосив голову набок, остренько взглянув на меня, с хитренькой усмешкой предлагает сесть. И сам садится, забросив ногу на ногу.
Оба смотрят на меня не без любопытства: какой-то инженер — и вдруг автор нескольких необычных пьес, у которых ничего общего с советской действительностью. (Это и вызывало, кстати, отторжение у всех театров, кроме Камерного.) Но что их любопытство по сравнению с моим! Знаменитый Акимов и великолепная, известнейшая Юнгер!