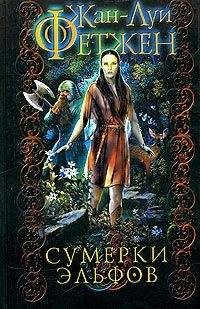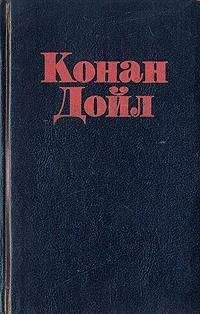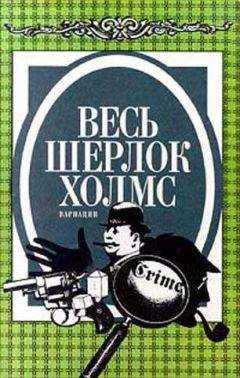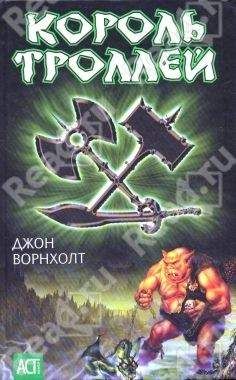Джон Карр - Артур Конан Дойл
«Он не использует никаких лекторских трюков, — продолжала „Уорлд“, — очень и очень немного жестикуляции, нет и театральных жестов, лишь время от времени, бессознательно, делал он то или иное движение, передающее настроение лица, о котором он говорил или читал».
«Гадали, например, — писала несколько простодушно нью-йоркская „Трибьюн“, — будет ли он говорить на британском или каком-нибудь ином диалекте английского языка. Д-р Дойл разрешил все эти сомнения с первого же слова. Его приятный голос и четкая речь сочетали в себе манеры шотландские, британские и американские».
Тут требуется пояснение.
В 90-е годы в Соединенных Штатах не было людей, более презираемых и подвергаемых насмешкам, чем те, кого прозывали «дудами». «Дуд», или, проще, пижон, доморощенный или английского производства, носил высокий воротничок и монокль в глазу, говорил жеманно на каком-то своем жаргоне и держался высокомерно и чванливо. Считалось, и вполне справедливо, что тип этот берет происхождение в Англии. И теперь, не понимая, что «дуд», хоть и под другим именем, фигура столь же презренная и в самой Англии, американцы открыли в Конан Дойле оратора искреннего, без притворства, наделенного ирландским темпераментом и ирландской общительностью, которого и при самой богатой фантазии самонадеянным не назовешь. Вот почему Америка признала его своим.
Он же мог своими глазами убедиться в преувеличенности всего того, что писалось об Америке. Как у американцев было свое расхожее представление об англичанах, так и у англичан было свое представление об американцах как о громогласных бахвалах, которые только и знают что похваляться своими доходами да плеваться табачной жвачкой. «Плевака» был для англичан таким же навязчивым образом, как монокль для американцев. Увы, и «плевака», и английский «дуд» — далеко не вымысел. Но нелепо было бы делать вывод, что образованных и хорошо воспитанных американцев мало.
Конан Дойлу — в галопе пронесшемуся по Среднему Западу до Чикаго, Индианаполиса, Цинциннати, а оттуда в Толедо, Детройт и назад в Милуоки и Чикаго — открывалась совсем иная картина.
«Я нашел здесь все то, что ожидал найти, — писал он матушке в письме, озаглавленном „На колесах“, — а то дурное, о котором рассказывают путешественники, есть клевета и чушь. Женщины не столь привлекательны, как говорят. Детишки светлые и симпатичные, хотя их и стремятся испортить. Народ в целом не только самый преуспевающий, но и самый благоразумный, терпимый и неунывающий из всех, мне известных. Им самостоятельно и по-своему приходится решать свои проблемы, и боюсь, они видят слишком мало участия со стороны англичан».
Еще сильнее он выразился в письме сэру Джону Робинсону:
«Мой Боже! Когда я увидел всех этих людей с их английскими именами и английским языком и когда понял, как далеко мы дали им отойти от нас, мне подумалось, что нам следует на каждом фонарном столбе на Пэлл-Мэлл вздернуть по одному из наших государственных мужей. Нам — или идти с ними вместе, или быть биту ими же. Центр тяжести расы находится здесь, и нам следует приспособиться».
На банкете в Детройте, когда вино разожгло страсти и один из присутствующих обрушился на Британскую империю, Конан Дойлу не потребовалось долго размышлять:
«Вы, американцы, до сего дня жили внутри своей ограды и ничего не знали о реальном мире извне. Но вот ваша земля заполнилась до краев, и вам придется теснее соприкоснуться с другими народами. И тогда вы поймете, что есть только один народ, который может вполне понять ваши надежды и стремления или выказать глубокое сочувствие. Это — материнская страна, которую сейчас вы так любите поносить…
Она — Империя, и вы скоро станете Империей; и только тогда поймете друг друга, и поймете, что у вас лишь один настоящий друг в мире».
Звучат ли эти слова теперь так же пророчески, как тогда, в 1894 году, в зале с цветными окнами и змеевидными электрическими светильниками? Как бы то ни было, в этой самой прозаической Англии произошло событие, имевшее некоторое значение для путешественника. Ирвинг представил в Бристоле, в Принсез-театре, «Ватерлоо» — пьеса имела огромный успех.
Так много газет пожелало послать своих представителей в Бристоль, что пришлось снарядить специальный состав для критиков. Сегодня, наверное, рассказ о поезде, переполненном театральными критиками, вызывает злорадные мысли о детонаторах и взрывчатке. Но факт этот демонстрирует уровень интереса к игре Ирвинга и пьесе Конан Дойла. Брем Стокер, дрожа от волнения, следил из-за кулис за реакцией зрителей и за тем, сколько раз поднимали занавес в финале.
Телеграф доносил эхо рукоплесканий через Атлантику. В Чикаго автор пьесы имел удовольствие узнать о приеме ее зрителями в описании владельца «Таймс Геральд», который побывал в Бристоле, чтобы увидеть ее. В Чикаго же повстречал Конан Дойл поэта Юджина Филда, с которым на долгие годы сдружился.
Оказавшись опять в Нью-Йорке, где его утренние чтения собирали все большие толпы слушателей в театре Дали, он был за обедом, данным в его честь клубом «Лотос», приглашен в турне по Восточному побережью Америки. У него уже слегка кружилась голова от этого калейдоскопа. Громыхание поездов, душные отели, бесконечные утренние, дневные и вечерние торжественные речи в собраниях, организованных по частной инициативе сверх того, что шло по расписанию, — все это было столь же утомительно, сколь утомительно было и чрезмерное гостеприимство. «Нам кажется, доктор, что мы не все сделали, как следует, если гость не напился так, что не может отличить доллара от циркулярной пилы». Или: «Я уверен, вы не откажетесь приветствовать наше маленькое общество? Всего пятнадцать минут».
Новая Англия ему понравилась. Дым осенних костров, багряные и бурые цвета увядающих листьев, шалашики скирд придавали полям, домам, улицам родную прелесть, какой наслаждаешься дома. Ощущалось и родство чувств.
«Вчера, — писал он, — я посетил могилу Оливера Уэнделла Холмса и возложил на нее большой венок — не от себя лично, а как бы от имени „Сообщества авторов“. На одном великолепном кладбище покоятся Холмс, Лоуэлл, Лонгфелло, Ченнинг, Брукс, Агассиз, Паркмен и многие другие». Это были люди Новой Англии, которые по духу вполне могли бы быть людьми Старой Англии. Он долго простоял на кладбище Маунт-Обурн, как некогда стоял над могилой Маколея.
А в Вермонте жил сейчас со своей женой-американкой Редьярд Киплинг, Киплинг, шесть лет назад непревзойденно сочной бранью выразивший свое отвращение к Чикаго (были там и «плеваки»), не так легко, как Конан Дойл, переносил, когда американцы дергали за хвост британского льва. Он платил им тем же, ощипывая их орла, — это немного успокаивало. Конан Дойл считал весь спор бессмысленным и написал об этом. Киплинг воспринял это благосклонно и пригласил его к себе в Вермонт.