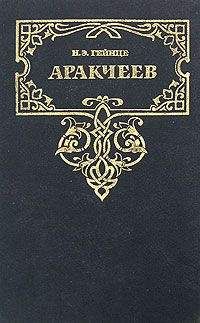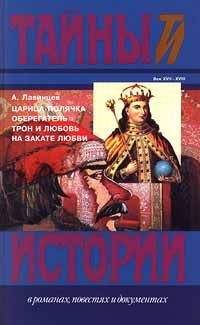Фриц Питерс - Детство с Гурджиевым. Вспоминая Гурджиева (сборник)
Когда мы перешли из парной мыться в среднюю комнату, Гурджиев снова обратился к архиепископу с длинной речью. Он сказал, что эта частичная прикрытость была не только видом ложной благопристойности, но что психологически и физически она вредна; в древних цивилизациях знали, что наиболее важные очищающие ритуалы должны производится с так называемыми «интимными частями» тела, которые не могут быть как следует очищены, если на них есть какая-нибудь одежда, и что в действительности, многие религиозные церемонии в прежних цивилизациях подчёркивали такую чистоплотность, как часть их религии и священных обрядов. Результатом был компромисс: архиепископ не возражал против аргументов Гурджиева и согласился, что мы можем мыться, как пожелаем, но что он не будет снимать своего прикрытия.
После бани спор продолжался в раздевалке, во время «охлаждающего» периода, который также длился около получаса; Гурджиев решил не рисковать, находясь на вечернем воздухе после парной бани. Холодный душ был существенным элементом процедуры, но холодный воздух – запрещён. В ходе дискуссии в раздевалке Гурджиев поднял вопрос о похоронах и сказал, что одним из важных проявлений уважения к умершим должно быть присутствие на их погребении с полностью очищенными телом и умом. Его тон, который был неприличным вначале, а потом стал серьёзным в комнате для мытья, теперь стал располагающим к себе и убедительным, и он повторил, что не намеревался показывать неуважение к архиепископу.
Каковы бы ни были различия между ними, они, очевидно, уважали друг друга; за ужином, который был почти банкетом, архиепископ оказался общительным, хорошо воспитанным и крепко пьющим человеком, который доставлял удовольствие Гурджиеву, и они, казалось, наслаждались компанией друг друга.
После ужина, хотя к тому времени было уже очень поздно, Гурджиев собрал всех в главной гостиной и рассказал нам длинную историю о погребальных обычаях в различных цивилизациях. Он сказал, что, как и хотела мадам Островская, у неё будут надлежащие похороны, утверждённые её церковью, но добавил, что в великих цивилизациях далёкого прошлого – цивилизациях, которые буквально неизвестны современному человеку, – существовали другие обычаи, которые были соответствующими и важными. Он описал один такой похоронный ритуал – обычай всем родственникам и друзьям покойного собираться вместе на три дня после его смерти. В течение этого периода они думали и разговаривали всей компанией обо всех злых и вредных поступках, которые совершил покойный в течение жизни, – одним словом, о его грехах; целью этого было создать противовес, который даст силу душе, чтобы покинуть тело и открыть путь к другому миру.
Во время похорон на следующий день Гурджиев оставался молчаливым и закрытым от всех нас, как будто на самом деле только его тело находилось среди присутствовавших на похоронах. Он вмешался только в одном месте церемонии, когда тело должны были вынести из Дома для занятий и поместить на катафалк. В тот момент, когда носильщики собрались, женщина, которая была очень близка к его жене, бросилась на гроб, буквально истерически завыла и с горем зарыдала. Гурджиев подошёл к ней и отвёл её от гроба, спокойно говоря с ней, после чего похороны продолжились. Мы следовали за гробом к кладбищу пешком, и каждый из нас бросил небольшую горсть земли на гроб, когда он был опущен в открытую яму недалеко от могилы матери Гурджиева. После службы Гурджиев и все оставшиеся почтили молчанием могилы его матери и Кэтрин Мэнсфилд, которая также была там похоронена.
Глава 25
В то время когда мадам Островская болела и Гурджиев проводил для неё ежедневные сеансы, одна особа, которая многие годы была близким другом его жены, серьёзно возражала против того, что делал Гурджиев. Её доводом было то, что Гурджиев бесконечно продлевал страдания своей жены, и это не могло служить какой-нибудь достойной или полезной цели, невзирая на то, что он говорил об этом. Эта женщина была мадам Стьернваль, жена доктора, и её гнев против Гурджиева достиг такой степени, что, хотя она продолжала жить в Приоре, но никогда не появлялась в присутствии Гурджиева и отказывалась разговаривать с ним несколько месяцев. Она доказывала свои соображения относительно него всякому, кому случалось оказаться в пределах слышимости, и однажды даже рассказала мне длинную историю в качестве иллюстрации его вероломства.
По её словам, она и её муж, доктор, были из первоначальной группы, прибывшей с Гурджиевым из России несколько лет назад. Мы слышали о невероятных трудностях, с которыми они сталкивались, избегая различных сил, участвующих в русской революции, и как они, наконец, совершили свой путь в Европу через Константинополь. Одним из доводов, который мадам Стьернваль приводила против Гурджиева как доказательство его ненадёжности и даже его злой натуры, было то, что в то время они смогли бежать в основном благодаря ей. Когда они достигли Константинополя, то были совсем без средств, и мадам Стьернваль сделала возможным продолжение пути в Европу, дав взаймы Гурджиеву пару очень ценных серёг, которые позволили им нанять судно и пересечь Чёрное море. Также мадам Стьернваль заявляла, что она не предлагала серьги добровольно. Гурджиев знал об их существовании и попросил их у неё как последнее средство, пообещав оставить их в Константинополе в хороших руках и как-нибудь вернуть ей – как только сможет собрать необходимые деньги для их выкупа. Прошло несколько лет, а она так и не получила серёг обратно, хотя Гурджиев собрал большое количество денег в Соединенных Штатах. Это было не только доказательством отсутствия у него хороших намерений; помимо этого, она всегда поднимала вопрос о том, что он сделал с деньгами, которые собрал – не купил ли он все эти велосипеды на деньги, которые могли бы быть использованы, чтобы выкупить её драгоценности?
Эта история рассказывалась многим из нас в различное время, и к моменту смерти мадам Островской я полностью забыл её. Через несколько недель после похорон Гурджиев спросил меня однажды, давно ли я видел мадам Стьернваль, и справился о её здоровье. Он выразил сожаление о том, что давно не видел её, и сказал, что это очень осложняет его отношения с доктором, и это нехорошая ситуация. Он прочитал мне длинную лекцию о причудах женщин и сказал, что, в конце концов, решил приложить усилия, чтобы завоевать вновь привязанность и благосклонность мадам Стьернваль. Затем он вручил мне часть плитки шоколада в разорванной обёртке, как будто кто-то уже съел другую половину, и велел мне передать это ей. Я должен был сказать ей, что он чувствует по отношению к ней, насколько он её уважает и ценит её дружбу, и что этот шоколад является выражением его почтения к ней.