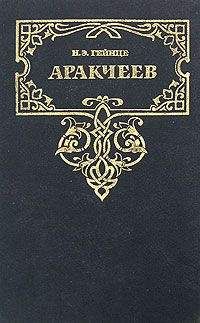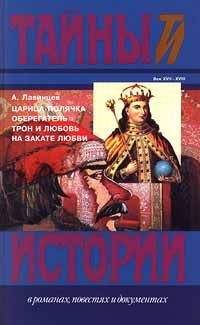Фриц Питерс - Детство с Гурджиевым. Вспоминая Гурджиева (сборник)
За день выпал снег, и двор между помещением швейцарской и главным зданием был покрыт снегом, сверкающим белизной и освещённым яркими лампами длинного коридора и главной гостиной, окна которых выходили во двор. Когда я заступил на дежурство, было темно, и я угрюмо сидел, наполненный жалостью к себе, внутри маленькой швейцарской, пристально смотря на огни в большом доме. Там ещё не было движения – остальные ученики, наверное, в это время ушли на ужин.
Прошло, казалось, огромное количество времени, пока я увидел людей, заполняющих большую гостиную. Кто-то начал зажигать свечи на ёлке, и я не смог сдержать себя. Я оставил дверь швейцарской открытой и подошёл к главному зданию так близко, как мог, чтобы услышать телефон, если он зазвонит. Было очень холодно – к тому же я не знал точно, насколько далеко я могу отойти, чтобы услышать телефонный звонок – и когда ёлка уже зажглась, я время от времени бегал назад в швейцарскую, чтобы согреться и сердито посмотреть на телефон. Я умолял его зазвонить, чтобы я мог присоединиться к остальным. Но он лишь также пристально смотрел на меня, суровый и молчаливый.
Когда началось распределение подарков, начиная с самых маленьких детей, я, забыв о возложенной на меня ответственности, подбежал прямо к окнам главной гостиной. Я не пробыл там даже минуты, когда взгляд Гурджиева поймал меня, он встал и большими шагами пересёк гостиную. Я отошёл от окна и, как будто он послал за мной, подошёл прямо ко входу в здание, вместо того чтобы вернуться в швейцарскую. Он подошёл к двери почти в одно время со мной, и мы остановились на мгновение, глядя друг на друга через стеклянные двери. Затем он открыл её неожиданным, резким движением. «Почему вы не в швейцарской? Почему вы здесь?» – спросил он сердито.
Чуть не плача, я выразил протест против обязанности дежурить, когда все остальные праздновали Рождество, но он коротко прервал меня: «Я сказал вам сделать это для меня, а вы не делаете. Нельзя услышать телефон отсюда: он может звонить сейчас, а вы стоите здесь и не слышите. Идите назад». Гурджиев не повышал голоса, но не было никаких сомнений, что он был очень зол на меня. Я вернулся в швейцарскую, обиженный и переполненный жалостью к себе, приняв решение, что больше не уйду с поста, несмотря ни на что.
Было уже около полуночи, когда вернулась семья, жившая на верхнем этаже, и мне позволили оставить пост. Я вернулся в свою комнату, ненавидя Гурджиева, ненавидя Приоре и в то же время чувствуя гордость за свою «жертву» для него. Я поклялся, что никогда не упомяну про этот вечер ни ему, ни кому-нибудь ещё; а также, что Рождество больше никогда не будет иметь для меня значения. Я ожидал, однако, что мне будет что-то дано на следующий день, что Гурджиев объяснит или каким-нибудь способом «компенсирует это мне». Я все ещё воображал себя неким «любимцем» из-за того, что работа в его комнатах была моим особым заданием.
На следующий день, к моему дальнейшему огорчению, меня назначили работать на кухне, так как там требовалась срочная помощь; у меня было достаточно свободного времени, чтобы убрать комнату Гурджиева, и я мог приготовить ему кофе в любое время, когда он захочет. Я видел его несколько раз, мельком, в течение дня, но всегда с другими людьми, и о предыдущем вечере не упоминалось. В какой-то момент после обеда кто-то сказал мне, что Гурджиев послал его передать мне несколько рождественских подарков: какую-то мелочь плюс экземпляр книги Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Это был конец Рождества, но всё ещё продолжалось бесконечное обслуживание за рождественским столом всех учеников и разных гостей. Поскольку я не один был официантом, я не почувствовал себя снова отделённым или «наказанным» так, как я почувствовал это предыдущей ночью.
Хотя Гурджиев никогда не упоминал о том вечере, я заметил изменения в его отношениях со мной. Он больше не говорил со мной как с ребёнком, и мои личные «уроки» подошли к концу; Гурджиев ничего об этом не сказал, а я был слишком запуганным, чтобы поднять вопрос об уроках. Даже, несмотря на то, что никакого телефонного звонка накануне Рождества не было, у меня было тайное подозрение, что во время одного из моментов, когда я выбегал из швейцарской, мог быть звонок, и это мучило мою совесть. Даже если не было телефонного звонка вообще, я знал, что «провалился» при исполнении порученной мне обязанности, и я не мог забыть этого долгое время.
Глава 23
Однажды весенним утром я проснулся ещё затемно, с первыми лучами солнца, появлявшегося на горизонте. Что-то беспокоило меня в то утро, но я не представлял себе, что это было: у меня было неясное беспокойство, ощущение, что что-то произошло. Несмотря на мою обычную ленивую привычку не вставать с постели до последнего момента, – который наступал около шести часов утра, – я встал с рассветом и спустился в тихую холодную кухню. Больше для своего успокоения, чем для помощи тому, кто был в тот день назначен мальчиком при кухне, я начал разводить огонь в большой железной угольной печи, и когда я клал в неё уголь, мой зуммер зазвонил (он звонил одновременно – в моей комнате и на кухне). Это было рано для Гурджиева, но звонок подтвердил моё ощущение тревоги, и я помчался в его комнату. Гурджиев стоял в открытых дверях и напряжённо смотрел на меня, Филос был рядом с ним. «Идите и немедленно приведите доктора Стьернваля», – приказал он, и я повернулся, чтобы идти, но он остановил меня, сказав: «Скажите ему, что мадам Островская умерла».
Я выбежал из здания и побежал к дому, где жил доктор Стьернваль – к маленькому дому недалеко от птичьего двора, который издавна назывался «Параду». Доктор и мадам Стьернваль, вместе со своим сыном Николаем, жили на верхнем этаже этого здания. Остальную часть здания занимал брат Гурджиева Дмитрий и его жена с четырьмя дочерьми. Я разбудил доктора и мадам Стьернваль и сообщил им новость. Мадам Стьернваль разразилась слезами, а доктор начал поспешно одеваться и сказал мне вернуться и сообщить мистеру Гурджиеву, что он выходит.
Когда я вернулся в главное здание, Гурджиева не было в его комнате. Я прошёл по длинному холлу в противоположный конец здания и робко постучал в дверь комнаты мадам Островской. Гурджиев подошёл к двери, и я сказал, что доктор идёт. Гурджиев выглядел спокойным, очень усталым и бледным; он попросил меня подождать возле его комнаты и направить доктора сюда. Вскоре появился доктор. Он пробыл в комнате мадам Островской всего несколько минут, когда Гурджиев вышел. Я нерешительно стоял в коридоре, не зная, ждать его или нет. Гурджиев посмотрел на меня без удивления и затем спросил, есть ли у меня ключ от его комнаты. Я ответил, что есть, и он сказал, что я не должен входить в неё, а также, что я никого не должен впускать до тех пор, пока он не вызовет меня. Затем, сопровождаемый Филосом, он прошёл к своей комнате, но не позволил собаке войти. Филос сердито посмотрел на меня, устроился против запертой двери, и впервые зарычал на меня.