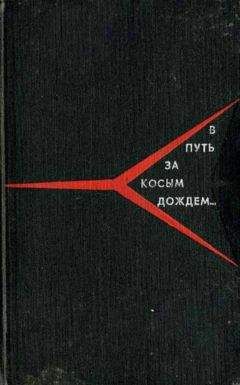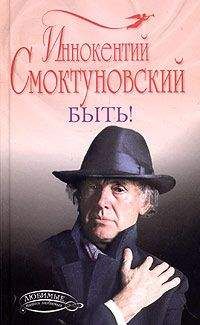Иннокентий Смоктуновский - Быть!
Задержавшись несколько у машины, Ортенсия что-то мягко говорила своему мужу, он тихо отвечал ей, затем, перейдя с испанского на английский, спросил меня:
– Как долго вы останетесь в Чили?
– Наш посол настаивает, чтобы я задержался до большого приема…
– Отлично, мы с женой приглашены тоже. Значит, до воскресенья…
Он уезжал по улице, полной народа. Все тепло и нежно глядели вслед удаляющемуся автомобилю… Он уехал – улица, осиротев вдруг, быстро пустела, стало темно и странно, почему-то скучно. Он уехал.
Алый отсвет гвоздик на белом тюле в ленинградской гостинице давно угас, и цветы темным пятном зло глядели на меня сквозь материю. Я отдернул белую пену занавеса: гвоздики, нежные гвоздики, через материки и океан пронесли в это осеннее утро тревогу и память о том, кто был столь щедр и честен, что отдал все, что только можно отдать в этой нашей жизни.
1 ноября 1973 года
Старею, должно быть, иначе трудно объяснить, почему в первый раз в жизни повесил у себя над кроватью (среди актерской братии такое довольно часто можно встретить) большую театральную афишу «Федора». Но, правда, когда крепил ее, подумалось: «Уж не культивирую ли я себя?» – и здесь же четко ответилось: «Да нет!» Подобным образом она не будет мешать и пылиться, а здесь едва ли не вовремя прикроет уже изрядно выцветшие обои и внесет свежее цветовое пятно в комнату.
«Да, но почему именно афишу? Зачем? Неужто и мне не удалось избежать этого: я сам, я сам». «Самее я тебя, и крышка», – как некогда говаривал Урбанский Женя, иронизируя и над самим собой, и над другими, укушенными этой вот бациллой.
Приколов, отошел в сторону взглянуть, как смотрится сей экспонат цвета, и, как баран, уперся взглядом в фамилию свою, хотя она ничем, ни шрифтом, ни цветом, ни величиной набора, не отличалась от других фамилий, титулов и просто слов на том большом листе бумаги…
…Да-а-а!
Но, правда, было бы уж совсем странно и непонятно, если б вдруг воззрился я на чью-нибудь чужую фамилию так вот, как смотрел я на свою, – но это уж было бы действительно странно и нездорово. Стоя так, смотря и думая вот этак, все больше уходил от пустоты, никчемности «и бронзы многопудья и слизи мраморной» – сколько сил, затрат здоровья, простого времени и даже жертв принесено, чтоб напечатать этот вот листок бумаги. «Нет-нет, пьедесталы не стоят ничего. Одна лишь жизнь, добро, что творчеством зовется, друзья, любовь, труд – работа, что единый хлеб дает, правда и надежда, простая человечная надежда, что будет завтра воплощеньем – сутью дня. Лишь только это!»
До физического ощущения вдруг коснулась тоска, что одной мечте уж не бывать. Не воплотить ее. Надеялся, хотел, ждал… Мечтал воплотить самого Пушкина…
Когда еще в окне едва мерцает размыто-мерный свет, и ночь на грани утра (не хочется вставать, но надо: съемка и где-то далеко за городом – натура), и только что с трудом открыл глаза – пятном неясным, мутно-серым встречает со стены (скорее, я это знаю, к этому привычен) тот белый лик – из гипса снятый слепок его лица с закрытыми глазами.
Всегда он – там. И тих и молчалив, как тот народ, напуганный и скорбный, что немо вопия, безмолвствует, верша конец трагедии о Борисе, написанной им.
Под ним – букет засохших роз, давно увядших, но (странно) сохранивших внешний вид и нежность до той поры, пока не прикоснешься к ним: тогда иллюзия бытия уйдет, напуганная силою извне, щемяще зашуршит заброшенным погостом, как если прошептало б: «Про-ш-ш-ло-о…»
И этот шелест роз напоминает мне тот дивный случай, когда при вскрытии давно искомой гробницы фараона уставшие от впечатлений, порожденных находкой, роскошью царей, богатством их, вдруг были сражены (и этот миг подобен потрясенью!), найдя на саркофаге фараона букет из потемневших васильков, рукою трепетной и любящей положенных в последний миг, должно быть, пред мраком и веками.
Букет цветов, он – эхо прошлых дней, как дань любви, последнее «прости» перед заходом солнца. И, может быть, – начало вечного. Бессмертия порог, через который шагнули некогда – и пронесли сквозь толщу времени любовь свою – в цветке… засохшем ныне…
Светает.
Уже угадываются черты лица, измученного предсмертной болью. Слегка открытый рот и впалость щек к зачесам бакенбардов. Высокий лоб и вдавленный висок. Глаза: они не то чтобы прикрыты – они закрыты смертью. Приплюснут длинный нос. И воля – лишь в упрямом подбородке, не хочет покидать владельца своего: она верна ему поныне. Огромный лоб – и выпуклость его все время заставляет возвращаться взглядом.
А ниже – букет засохших роз.
«Прош-ш-ло-о, прош-ш-ло-о…» Когда-то жило-было – увяло, кончилось, ушло, оставив гипс и пыль на розах, хрупких, как мох в расщелинах огромных пирамид.
Куда ушло?
Кто и когда ответит на вопрос вопросов?
Дальнейшее – молчанье…
Один «безмолвствовать» велит, другой – «молчанием» кончает. Такое впечатление, что человечество с пеленок – в почетном карауле на панихиде по самому себе (при том, что невтерпеж от шума, лязга, свиста, воды речей и топота присядок, но это лишь – помехи жизни…).
Уж утро. Звонят из группы: сейчас придет машина.
Люблю, когда вдруг отменяют съемку – как праздник провожу я этот день. Но здесь уже звонили: машина вышла, и отдыха не будет.
Сегодня почему-то много дольше, чем обычно, меня приковывал к себе тот белый лик, то скорбное лицо.
Оттого, быть может, что сейчас, работая над «Федором», все чаще думаю над тем, что сделано Борисом; к чему всех Федор призывал; что думал (и думал ли вообще?) народ (а может быть, субстанции этой и думать-то «не полагалось» никогда; не предназначено ему-де свыше – такое тоже может быть; откуда знать нам? У Толстого в «Войне и мире» сказано об этом, а это ум и мышление таких масштабов, что и поныне им довольно трудно равное сыскать…).
Белый лик – иссохшиеся розы.
Он знал, как точно описать возмездие за некогда содеянное зло.
Гений и злодейство – две вещи несовместные…
«Народ безмолвствует», безмолвствует народ… Как ни верти и ни меняй местами – трагедия налицо: не отвести ее, она пошла внакат. Молчали все. Ни тени состраданья. Немыслимо, щемящая тоска. Никто ни «за», ни «против». Пересохло в глотках. Страх завладел сердцами до холода, до тошноты. Застыли мысли и шаги: никто не шелохнется – вместе с теми, что только что свершили акт насилья и, увлажненные борьбою, с высокого крыльца взирали на народ. Притихла Русь, и сожжены мосты. Безвременье и бездорожье.