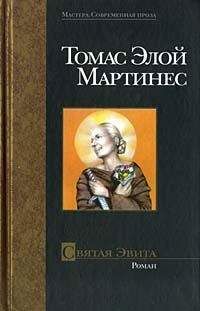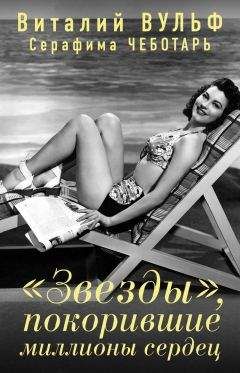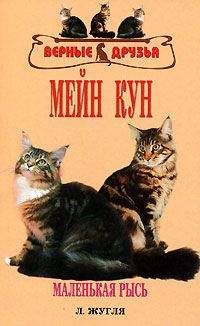Мэри Мейн - Эвита. Женщина с хлыстом
Но программа, подготовленная для жены президента в Мадриде, не оставляла времени для обид; показная роскошь могла удовлетворить даже ту ненасытную жажду развлечений, какой обладала Эва, и, должно быть, чрезвычайно утомляла бедную донью Кармен, которой в качестве бонны приходилось сопровождать свою госпожу повсюду, – мало кто мог соперничать с Эвой в выносливости и неуемной энергии. Она металась с официального приема на банкет, а потом на бал; носилась по музеям и церквам, в каждой из которых ее ждали представители официального «организационного комитета»; принимала профсоюзные делегации, посещала ремесленные училища и медицинские диспансеры и в открытом «кадиллаке» со «случайным» репортером из «Аррибы», который повсюду следовал за нею, объезжала рабочие районы и посещала «чистые и светлые дома счастливо улыбающихся трудящихся», которым она, по ее словам, привезла образ и дух Перона. Впрочем, бедняки с большей охотой принимали щедро раздаваемые ею банкноты достоинством по сто песет (кое-кто из этих бедных людей в жизни не держал в руках подобной суммы, но, наверное, эти банкноты не были адекватным возмещением тех миллионов, которых стоил стране ее визит).
В тот день, когда Эва должна была получить награду из рук Франко, магазины и конторы закрылись на четыре часа раньше, чтобы служащие их могли собраться около Паласио Реал и послушать трансляцию церемонии, проходившей внутри. В Тронном зале Франко, в своем блестящем мундире маршала армии, с ленточкой ордена Сан-Мартина, которым наградил его Перон, пожаловал Эву Большим крестом Изабеллы Католической, самой высокой из испанских наград. Стоя между генералиссимусом и доньей Кармен, Эва приветствовала государственных деятелей, дипломатов и высокопоставленных духовных лиц – и это была девочка, которая десять лет назад боролась за крошечную роль на радио!
Когда же она вместе с генералиссимусом и доньей Кармен вышла на балкон, толпа взорвалась дисциплинированными аплодисментами, руки поднялись в фалангистском салюте. Стоя под знойным летним солнцем в норковом манто (она в тот период предпочитала надевать свои меха и драгоценности, невзирая на климат), с пучком золотых волос, уложенных в затейливую прическу, которую завершала эгретовая шляпка, с улыбкой, сияющей словно ее бриллианты, Эва отсалютовала толпе в ответ.
В другой вечер ее пребывания в Мадриде движение по Пласа Майор было перекрыто, чтобы провести на ней фестиваль народных танцев, который устраивался в честь Эвы. Танцы продолжались до трех часов ночи, и женская секция фаланги подарила Эве пятнадцать народных костюмов разных провинций, украшенных музейной вышивкой и уложенных, каждый, в специальную корзину, сплетенную наподобие кофра.
В бое быков, проведенном для нее в Пласа де Торос, участвовали лишь самые опытные матадоры и быки породы Муира, известные своей свирепостью и дороговизной. Все ложи были украшены разноцветными мантильями, а сама арена посыпана цветным песком и представляла собой сложный рисунок: красный и желтый изображали Испанию, белый и голубой – Аргентину, а центр символизировал союз двух стран. Вся эта красота являлась плодом многочасового терпеливого и умелого труда, но была разрушена в мгновение ока. Эва, сидевшая в королевской ложе, белокурая, с головы до пят одетая в белое, являла разительный контраст с черноволосыми испанскими женщинами, большинство которых по привычке одевались в черное. Зрелище открыл парад цыган из Гранады, распевавших свои дикие песни и танцевавших под звон гитар и рокот тамбуринов; за ними проследовала величественная процессия королевских экипажей; за ними – быки Муира…
Во дворце Франко Эль Прадо и также в отеле «Риц» проводились грандиозные банкеты, Эву возили на экскурсию в Эскуриал, ее всюду принимали епископы и высокие сановники, титулованные головы склонялись к ее руке, она получала цветы и сказочные подарки (одним из них был флакон духов за четыре тысячи долларов), ее имя красовалось на плакатах, на флагах и транспарантах, для нее играли оркестры, ее повсюду приветствовали почтительные толпы – о, она дала бы сто очков вперед жене любого олигарха!
После однодневной поездки по Сеговии с изматывающей чередой банкетов и встреч Эва отправилась самолетом на север – в Галицию, провинцию, откуда были родом многие аргентинцы, а затем на юг – в Севилью и Гранаду; и повсюду женщины-крестьянки проталкивались вперед, чтобы увидеть ее или даже прикоснуться к этому прекрасному видению, которое казалось им воплощением мечты о богатстве и вызывало в воображении все те посылки и письма, которые многие из них получали из Южной Америки. Порой она делала остановки, то – чтобы выступить на заводе по производству взрывчатых веществ; то – чтобы почтить гробницы королевской католической династии (никто не знал, какой маршрут она изберет!); посетила церковь Нуэстра Сеньора де Буэн Айре, по имени которой назван Буэнос-Айрес, затем – табачную фабрику и колониальный институт, где раздала тысячи подарков из родной земли предполагаемым аргентинцам, и еще музеи, праздники и богослужения – после чего наконец удовлетворилась и приготовилась расстаться с Испанией.
«Мое простое женское сердце, – говорила она по радио, обращаясь к испанским женщинам, – содрогается, заслышав вечный аккорд бессмертной Испании. Оказавшись на нашей второй родине, я еще больше чувствую себя аргентинкой. Я дарю вам самую сильную любовь, какую только может испытывать женщина, когда стук ее сердца совпадает с вечным ритмом божественной гармонии. Именно поэтому сегодня я ощущаю себя опьяненной любовью и счастьем и мое простое женское сердце начинает биться в такт с вечными аккордами бессмертной Испании».
Опьяненная любовью и счастьем, с сердцем, бьющимся в такт с вечными аккордами, Эва улетела в Барселону, где ее ждал Франко с женой и дочерью (он не сопровождал гостью в ее подобной урагану поездке по провинциям). После очередного припадка активности, включавшего посещение театра, где она посмотрела «Сон в летнюю ночь» на испанском языке (какой скромной должна была казаться эта фантазия по сравнению с ее собственной!), она отправилась самолетом в Рим, а Франко и донья Кармен (можете себе представить, как она была измучена и благодарна) вернулись в Мадрид.
Несколько недель, проведенных Эвой в Испании, были в этой, в остальном довольно бесцветной, поездке самыми яркими днями. Куда бы она ни отправилась, ее с энтузиазмом встречали не только официальные лица, но и простые люди (такого воодушевления ей не пришлось больше увидеть вплоть до возвращения домой). Как и всегда, когда речь идет о тоталитарном государстве, трудно судить, насколько подлинным был этот энтузиазм. Разумеется, власти сделали все, чтобы расположить массы в ее пользу: в прессе и по радио превозносили ее женские достоинства, ее щедрость и набожность, а кроме того, без сомнения, имелись четкие инструкции организовать повсюду, где она появлялась, аплодирующую толпу; сама же она в свою очередь поддерживала народное ликование любезностью и щедрыми дарами (например, просила освободить двух узников, арестованных за то, что накануне ее прибытия подложили бомбу в здание посольства Аргентины в Мадриде, и предложила стать крестной матерью каждому ребенку, который родится за время ее визита). И тем не менее по большей части восторженные толпы привлекала ее красота, почти легендарная слава, которая уже стала окутывать ее имя, и тот факт, что она представляет (и столь адекватно!) страну молока и меда, в которую многие из этих людей мечтали когда-нибудь бежать. Правительственные чиновники, духовенство и знатные люди принимали ее с распростертыми объятиями, потому что за ней вырисовывались финансовые займы и огромное количество кораблей, груженных столь необходимой пшеницей; но беднякам ее присутствие обещало нечто большее, чем просто пищу. Она воплощала богатство обетованной жизни, земли солнечного света, где в городах до сих пор мостят улицы золотом. Только самые богатые аристократы испытывали обиду при виде снисходительной грации, с которой она дарила свою щедрость их беднякам и одновременно принимала их комплименты, и лишь немногие усматривали иронию в том, что она выбрасывала наряды, покрасовавшись в них всего лишь раз, будучи в стране, где голодало множество рабочих и крестьян, которых она, по ее словам, так сильно любила.