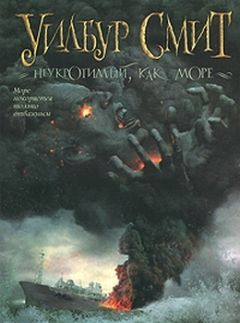Антология - Есенин глазами женщин
– Не ждали? Я по делу. Выложу и сразу побегу.
– О делах потом, – перебивает Сергей. – Быстро не отпущу, раз уж вы тут. В кои-то веки снизошли!
Квадратная комната. Вдоль окна – с отступом для стула – большой прямоугольный стол (не письменный), на нем в углу сдвинутая работа и кучка книг. С торца налево сидит девица – знакомая прямая посадка, «как аршин проглотила». Нет, не аршин… не классная дама: скорее первая ученица, готовая дать заученный ответ. Глаза не выдают и тени недовольства моим несвоевременным вторжением.
На столе появляется чай – полутеплый. Сперва неловкое молчание, потом вялый общий разговор. Женя спрашивает вдруг Есенина, умеет ли он рисовать. Я попадаю в детский сад. Не классная дама, не первая ученица… Трехлетняя Женечка спрашивает пятилетнего Сережу: «Ты умеешь рисовать?» И тот в ответ, резко: «Нет. А ты?» «Я умею рисовать уточку». И Женя – Евгения Исааковна Лившиц – старательно выводит на листке бумаги лежачий овал – тело птицы; слева кружок с клювом – головка; справа палочки веером – хвост.
А я поясняю деткам, что на тот же вопрос «умеете вы рисовать?» Скрябин будто бы ответил: «Не знаю, не пробовал». Только вот не припомню, от кого я это слышала. Мне хочется взять карандаш, нарисовать всадника на буйном коне, но нельзя, выйдет похоже на бахвальство.
Женя спохватилась, что ей пора. Поднимаюсь и я. Меня Сергей не отпускает: «Вы же по делу! Поговорим».
Как живо все это вспоминается мне, когда годы спустя Сергей, раздраженно и явно в угоду Бениславской, скажет при мне в больнице на Полянке про Женю Лившиц:
– Она будет мужу любовь аршином отмерять.
Уж не тем ли проглоченным аршином, который не дает согнуться горделивой спине?
В ту первую ночь
Весна двадцать первого. Богословский переулок. Я у Есенина.
Смущенное:
– Девушка!
И сразу, на одном дыхании:
– Как же вы стихи писали?
Если первый возглас я приняла с недоверием (да неужто и впрямь весь год моего отчаянного сопротивления он считал меня опытной женщиной!), то вопрос о стихах показался мне столь же искренним, сколь неожиданным и… смешным. Вихрем пронеслось в уме:
«Вот как, и ты разделяешь дешевую мужскую философию о роли половых гормонов в творчестве… Совсем недавно Сергей Буданцев толковал мне, что родись я мужчиной, то при моем-де даровании я развернулась бы в поэта первого ранга… Ну, с того и спросу нет – умен, но пошловат… А Есенин… Но, значит, все-таки признаешь ты во мне подлинного поэта…»
И еще сказал мне Есенин в тот вечер своей запоздалой победы:
– Только каждый сам за себя отвечает!
– Точно я позволю другому отвечать за меня! – был мой невеселый ответ.
При этом, однако, подумалось:
«Выходит, все же признаешь в душе свою ответственность – и прячешься от нее?» Но этого я ждала наперед.
Не забыл напомнить мне и свое давнее этическое правило: «Я все себе позволил!»
К кому ты сейчас примериваешься, Сергей Есенин? Повеяло Достоевским, хоть никогда я не слышала от тебя этого имени… И память услужливо подсказала: «Ставрогин!»
На миг мне сделалось не на шутку страшно. Не за себя.
А надо всем звенела радость полного сближения. Для него, как и для меня.
Позже поняла: это есенинское правило «я все себе позволил» – правило не так этическое, как эстетическое – не очень-то подтверждалось его поведением в жизни. Этими словами он лишь внушал самому себе, что поэт – человек, живущий для искусства, – не должен подчинять себя каким бы то ни было запретам, нравственным ограничениям. Недаром, когда он определится как поэт в полном смысле советский, добровольно поставивший себя в известные границы, Есенин отбросит это правило: «я все себе позволил». И повторю: после его возвращения из заграницы я уже никогда этих слов от него не услышу.
Особенный взгляд
С Есениным нередко бывало такое: среди разговора, для него, казалось бы, небезразличного, он вдруг отрешится от всего, уйдет в недоступную даль. И тут появится у него тот особенный взгляд: брови завяжутся на переносье в одну черту, наружные их концы приподнимутся в изгибе. А глаза уставятся отчужденно в далекую точку. Застывший, он сидит так какое-то время – минуту и дольше – и вдруг, встрепенувшись, вернется к собеседнику. Так происходило с ним и наедине со мною, и за столом в общей небольшой компании. Позже тот же взгляд я приметила у Кати Есениной. Решила, что девочка переняла его у брата, во многом усердно ему подражая в свои пятнадцать лет.
Но вот и мой малыш месяцев семи, качаясь в люльке, нет-нет, а уставится вдаль. Тот же взгляд! И я безошибочно узнала, что это не какая-то выработанная манера ухода от окружающих, а нечто прирожденное – и у Сергея, и у Кати… и у моего мальчонки. У Шуры Есениной, мало похожей на брата (она в мать, а Сергей и Катя явно в отца), я никогда не наблюдала этого есенинского взгляда.
Наши споры
Мы часто говорим – а то и спорим – о формальных приемах в поэзии.
– У Маяковского, – укажу, бывало, – превосходные образы! – И цитирую:
А у мчащихся рек на взмыленных шеях
Мосты заломили железные руки.
– Скажете, плохо?
Есенин в ответ (разговор был еще в двадцатом году, до моего вступления в ряды имажинистов):
– А это не образ – это рассказ, «фельетон», «сотворение мифа».
Имажинистов часто попрекали подменой понятия «поэтический образ» просто метафорой. К тому же построенной если не на прямом сравнении – «как», «словно», «будто», – то посредством родительного падежа или творительного, например:
1) Родительный падеж:
Веслами отрубленных рук
Вы гребетесь в страну грядущего.
(Укажу попутно: Есенин произносил: «вы хребетесь в страну хрядущего» – с глухим «х»!).
2) Творительный падеж:
По́ пруду лебедем красным
Плавает тихий закат.
Первым из этих приемов Есенин пользовался чаще, чем вторым.
Как-то в беседе со мной Иван Никанорович Розанов (в прошлом – мой гимназический учитель литературы) заметил, что у Пастернака можно часто встретить образы, построенные не на метафоре, а на метонимии[15]. Я же назвала любимый прием имажинистов «аблативус, или генитинус имагинис», памятуя, как на уроках латыни мучили гимназистов всевозможными видами употребления этих падежей.
Но шли – нет, не годы – месяцы, и менялись установки и старших поэтов, и мои.
Однажды у себя, в Богословском, Есенин, когда я уже спешу убежать (мне в тот вечер читать с эстрады в «Стойле Пегаса»), как бы под занавес говорит: