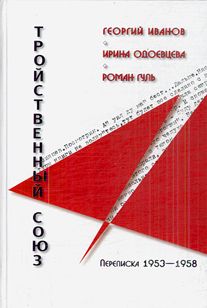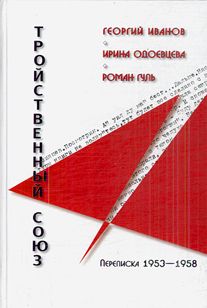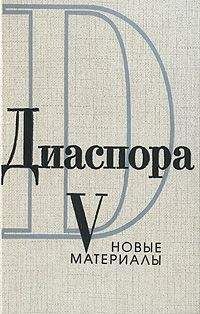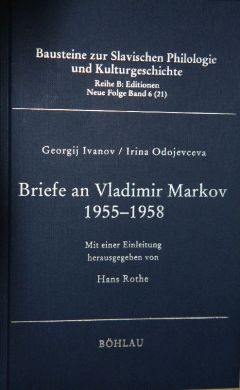Ирина Муравьева - Ханс Кристиан Андерсен
— Ну-ну, спокойнее, друг мой. Что я такого особенного сделал? Пошел и рассказал государственному советнику Коллину всю правду о вашем положении в доме Мейслинга, вот и все.
— «Все»! Да, для меня это действительно было «все»… Но откройте же мне, ради бога, хоть теперь, что именно вы ему говорили целый час? Я чуть с ума не сошел, дожидаясь, пока вы кончите!
— Какой любопытный! — смеясь, покачал головой Берлин. — Ну, будто вы сами не знаете все, что я мог сказать? Да и не все ли равно теперь? Главное, что мы добились своего и завтра же вы будете в Копенгагене — счастливец!
— Да, да, вы правы, — заторопился Ханс Кристиан. — Только собрать вещи, проститься со всеми и… Ах, скорее бы завтра!
У крыльца школы они столкнулись с Мейслингом. Не отвечая на робкий поклон Ханса Кристиана, он бросил на него свой взгляд василиска.
— Как, вы опять здесь? Когда же вы соизволите, наконец, убраться из моего дома? Я уже собирался выкинуть на улицу ваше барахло!
— Но, господин Мейслинг, я только что с парохода…
Не слушая его, ректор пошел дальше своей прыгающей походкой. В сущности, можно было уже не лепетать таким испуганным тоном, но от четырехлетней привычки не так-то легко отделаться…
Ханс Кристиан покрутил головой, вздохнул и поспешил воспользоваться отсутствием хозяина, чтобы спокойно собраться. «Копенгаген, Копенгаген», — напевал он, аккуратно складывая книги и белье. Радость переполняла его, и он весело болтал с прибежавшими служанками и с фру Мейслинг, удивляясь, как он раньше не замечал, до чего они все милые и симпатичные.
— Да, да, господин государственный советник сказал, что лучше мне жить в Копенгагене, поближе к нему. О, я не брошу заниматься, ни, в каком случае! Мне будет давать частные уроки господин Мюллер, кандидат теологии, он мой ровесник и очень, очень знающий человек!.. Я буду зубрить и зубрить, развлекаться мне будет некогда, что вы, фру Мейслинг! Ведь через полтора года я должен во что бы то ни стало сдать экзамен!
— Ну, желаю вам счастья! — с жеманным вздохом протянула фру Мейслинг. — Не поминайте лихом…
— О нет, за что же?! — в эту минуту даже сам ректор казался Хансу Кристиану, в сущности, неплохим человеком.
Когда незатейливый багаж был уложен, бывший ученик Мейслинга выпрямился и вздохнул в нерешительности. Все-таки, пожалуй, надо пойти проститься… Ведь во многом виноват он сам, Ханс Кристиан. Легко ли раздражительному человеку выносить его рассеянность, его тупость в вопросах латыни и греческого… Поневоле иной раз выйдешь из себя! Ханс Кристиан, сделав над собой усилие, вошел в библиотеку, где в дальнем углу сидел Мейслинг.
— Кто еще там? — прозвучал в тишине резкий скрипучий голос ректора.
— Это я, Андерсен… Не сердитесь, господин Мейслинг, прощайте и… спасибо за все хорошее, что вы мне дали! — залпом выпалил Ханс Кристиан.
Книга, которую Мейслинг держал в руках, с шумом полетела в угол.
— До чего же вы мне надоели, осел несчастный! Убирайтесь к черту в самое пекло, сумасшедший идиот! Бездарный стихоплет!
С этим прощальным напутствием Ханс Кристиан навсегда покинул малогостеприимный кров ректорского дома.
ГЛАВА V
ПРОБА КРЫЛЬЕВ
Наконец-то пришла долгожданная свобода! Опьяняющий весенний воздух, оживленные улицы Копенгагена, тысячи новых планов и надежд — как тут не чувствовать себя счастливым? «Теперь я был вольной птицей; все горечи, все обиды были забыты, и мой прирожденный юмор, подавленный до сих пор, бурно вырвался наружу. Все казалось мне веселым и забавным, и моя повышенная чувствительность, за которую столько насмешек и гонений я терпел от Мейслинга, мне самому теперь тоже представлялась смешной»; — так вспоминал об этом времени Андерсен несколько лет спустя. Избавление от мейслинговcкого гнета было толчком для расцвета тех мыслей и настроений, которые подспудно cкапливались в сознании молодого поэта.
Несмотря на все старания Мейслинга, духовное развитие Андерсена в эти тяжелые годы шло своим путем. Он очень много читал, буквально глотал книги, его записные книжки наполнялись все новыми и новыми выписками.
Здесь можно было найти цитаты из датских и немецких, из латинских и греческих (уроки Мейслинга тоже не прошли даром!), из французских, английских и итальянских авторов. На первом месте по количеству выписок был Гёте, дальше шли Шиллер, Гофман, Эленшлегер, встречались здесь и Вольтер, и Смоллет, и Гоцци, и старые любимцы Вальтер Скотт и Шекспир, а в конце тетради появилось новое имя, вскоре оттеснившее все остальные: Генрих Гейне. Фантастика и юмор Гофмана и гейневское сочетание лирики и иронии были особенно близки Андерсену, и это вскоре отразилось на его собственных литературных начинаниях. Стихи, написанные в Слагельсе, уже не нравились ему самому. «Что за плаксивый дурак это сочинял?» — пожимал он плечами, перечитывая их. Другое дело «Вечер», отразивший жизнерадостно-юмористическое настроение и жадный интерес к окружающему миру, которыми окрашивались первые месяцы в Хельсингере. Из грустных стихотворений он ценил теперь только «Умирающее дитя». Пусть себе Мейслинг считает это «сентиментальной пачкотней»: сухие педанты всегда готовы объявить сентиментальностью всякое искреннее, сильное чувство, недоступное им самим. Ничего, вещь еще найдет своего читателя, а кроме того, он напишет много других, лучших.
Никакие уговоры фру Вульф не могли заставить его потерять эту веру, а сейчас он чувствовал такой прилив сил и бодрости, что горы, кажется, мог своротить!
Перемену, происшедшую в Андерсене, заметили все его копенгагенские знакомые, но каждый оценил ее на свой лад. Фру Вульф больше всего боялась, что вся эта веселость, стремление всюду побывать и все видеть, а потом рассказывать друзьям комические истории о виденном помешают главному: усидчивой подготовке к университетскому экзамену. Для нее Андерсен оставался — и так было до конца — недоучившимся школьником, которого надо на каждом шагу для его же пользы одергивать и поучать. То, что он прочел тьму-тьмущую книг и следил за статьями по философии и эстетике в журналах, ничуть не прибавляло ему веса в ее глазах. «Разве это имеет отношение к солидному, настоящему образованию? — думала она. — Конечно, нет. Романы, стихи и статьи всякий может читать». Другое дело, если он сумеет, наконец, безукоризненно изъясняться на латинском языке и рассуждать о тонкостях классической филологии. Без этого и стихи писать нечего соваться. Фру Вульф отражала очень распространенное тогда убеждение, что знание латинской грамматики — это основа всех основ.