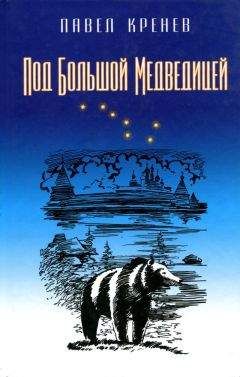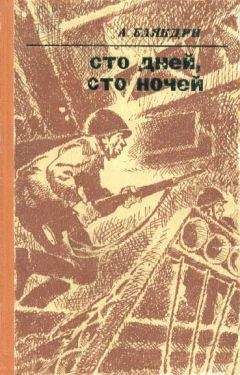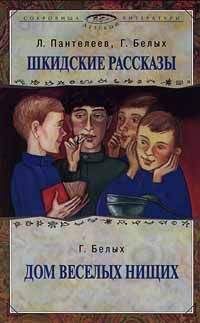Марианна Басина - Жизнь Достоевского. Сквозь сумрак белых ночей
Врач и пациент стали друзьями. Нередко Яновский, и сам весьма небогатый, ссужал Федора Михайловича несколькими рублями.
— Вот ведь знаю, что у вас я всегда могу взять рублишко, — говорил при этом Федор Михайлович, — а все-таки как-то того… Ну да у вас возьму, вы ведь знаете, что отдам.
Среди их общих знакомых было немало людей, кого часто пришибала крайняя нужда. И как-то раз Достоевский сказал:
— Как бы нам составить такой капиталец, ну хоть очень маленький, рублей в сотняжку, из которого можно было бы заимствоваться в случае крайности, как из своего кошелька!
Яновский согласился, откладывая из жалованья, сколотить сотенный «капиталец», и вскоре один из ящиков его письменного стола обратился в кассу для помощи нуждающимся друзьям. Здесь лежали деньги и написанные рукою Федора Михайловича правила.
В них значилось, сколько каждый может взять денег из кассы, когда и в каком расчете взятая сумма должна быть возвращена. Оговорено было, что нарушивший правила мог получить ссуду не иначе как с чьим-либо ручательством. Если же кто и после этого оказывался неаккуратным, кредит ему прекращался. Кроме главной кассы в сто рублей, была заведена еще и маленькая копилка, куда бросали серебряные пятачки — деньги эти раздавали нищим.
У Яновского Федор Михайлович бывал чаще, чем у кого-либо из друзей. Теперь нередко засиживался у него по вечерам, порою оставался ночевать. Совет или даже просто доброе слово друга-доктора помогали ему и ободряли. Он по-прежнему не чувствовал себя вполне здоровым — жаловался на какую-то самому ему непонятную болезнь нервов, которую называл «головными дурнотами» или, шутя, «кондрашкой с ветерком». Эту болезнь полагал он причиною случавшихся с ним время от времени припадков. Яновский, следом за другими врачами, просил его избегать сильных впечатлений и душевного волнения. Чтобы исполнить этот совет, ему пришлось бы первым делом бросить писать. Но зачем тогда здоровье, зачем сама жизнь?
Едва встав с постели, он снова принялся за работу — и теперь писал уже не одну повесть, а две разом.
«В Италии, на досуге, на свободе…»
Свои новые повести Достоевский предназначал для альманаха, который задумал издавать Белинский с помощью Некрасова. «Белинский оставляет „Отечественные записки“, — объяснял Федор Михайлович брату. — Он страшно расстроил здоровье, отправляется на воды, может быть, за границу. Он не возьмется за критику года два. Но для поддержания финансов издает исполинской толщины альманах (в 60 печатных листов). Я пишу ему две повести: 1-я) „Сбритые бакенбарды“, 2-я) „Повесть об уничтоженных канцеляриях“, обе с потрясающим трагическим интересом и — уже отвечаю — сжатые донельзя. Публика ждет моего с нетерпением… „Сбритые бакенбарды“ я кончаю».
Но случилось так, что вторую повесть он окончил раньше первой. Работа над «Сбритыми бакенбардами» вдруг запнулась, остановилась, а «Повесть об уничтоженных канцеляриях» давно сложилась в голове и сама просилась на бумагу, не давала покоя. И он сел за нее.
Сюжет этот явился ему еще года два назад, когда он случайно наткнулся в «Северной пчеле» на крохотную заметку о смерти некоего безвестного чиновника, коллежского секретаря Бровкина. Где-то на Васильевском острове, у бабы-солдатки снимал коллежский секретарь весьма тесный угол за пять рублей ассигнациями в месяц. Питался впроголодь — хлебом, луком, редькой. Когда же Бровкин помер, в старом истертом тюфяке, на котором он спал, нашли больше тысячи рублей серебром! За такую-то удивительную скупость и выставила «Северная пчела» покойного Бровкина на общее посмеяние.
Достоевский дал своему Бровкину значащее имя — Прохарчин. И по фамилии главного героя назвал потом повесть — «Господин Прохарчин». Его чиновник голодал именно в страхе «прохарчиться» — то есть проесть, истратить свои гроши на харчи. Чиновник одержим был мыслью припрятать малую толику, скопить деньгу про черный день. Ему нипочем полуголодное существование — что там! — самой смерти он не боится, но постоянно грызет его тревога: а вдруг однажды ни с того ни с сего возьмут да и уничтожат за ненадобностью канцелярию, где он служит, лишат его места и жалования.
«— А она стоит да и нет…
— Нет! Да кто она-то?
— Да она, канцелярия… кан-це-ля-рия!!!
— Да, блаженный вы человек! да ведь она нужна, канцелярия-то…
— Она нужна, слышь ты; и сегодня нужна, завтра нужна, а вот послезавтра как-нибудь там и не нужна».
Леденящее душу одиночество человека в огромном городе, панический ужас перед завтрашним днем, перед шаткостью своего положения — вот что разглядел Достоевский за курьезом газетной хроники. И в его повести жалкий скопидом-чиновник приобретает черты зловещие, пугающие. Скрытый в углу за ветхими ширмами засаленный тюфяк, набитый серебряными и медными деньгами, обороняет своим тощим телом уже не какой-то там безобидный скупердяй, а этакий канцелярский Гарпагон — фигура одновременно забитая, уродливая и устрашающая.
Власть денег, власть безденежья… Со времени приезда в Петербург автор «Господина Прохарчина» на себе испытал неотвязную тяжесть каждодневной заботы о деньгах. Вот и теперь снова сидел он по уши в долгах. Гонорары за «Бедных людей» и «Двойника» ушли на уплату прежним кредиторам, на обновы (хотелось пофрантить), как-то незаметно растаяли, испарились. Весной 1846 года пришлось занять денег у Краевского. Летом, отправляясь к брату в Ревель, снова обратился к Краевскому. А расплачиваться он мог только работой: за каждые пятьдесят рублей печатный лист. Волей-неволей «Господина Прохарчина» отдал не в альманах Белинского, а в уплату за долг в «Отечественные записки» Краевскому. И всё деньги, проклятые деньги…
Летом, в семье брата, он, как всегда, отдыхал душою. Педантически размеренное и сонное ревельское житье по-прежнему вызывало в нем раздражение. Но зато петербургские заботы представлялись отсюда какими-то бесконечно далекими, не страшными и даже, может быть, вовсе не существующими. Он то подолгу возился с трехлетним племянником Федей, то вдруг, к ужасу Эмилии Федоровны, начинал горячо убеждать брата бросить службу и ехать в столицу — пробивать себе дорогу в литературе.
Михаил уныло вздыхал, глядя на детей:
— Как тут рисковать?..
Лето минуло быстро. И вот уже снова гудит под ногами пароходная палуба, мерно врезаются в воду лопасти огромного колеса. Вспоминаются печальные глаза Михаила, розовый чепчик Эмилии Федоровны, насупленное личико Федора Михайловича-младшего. Бесконечно тянется время в сырой каюте и на палубе под ветром и дождем. И наконец из серых вод поднимается знакомый силуэт Кронштадта.