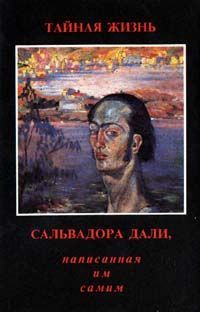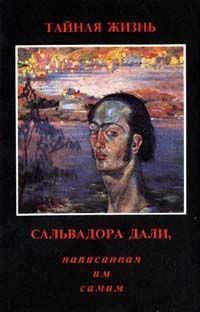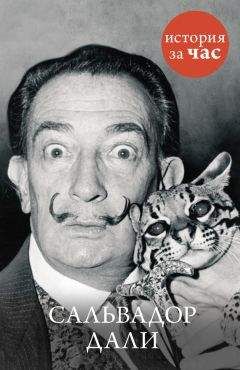Мария Баганова - Лев Толстой. Психоанализ гениального женоненавистника
Так же, как и всех других родных Льва Николаевича, для этой женщины жизнь ее отца была самым главным в мире. Ей и в голову не пришло посмотреть на часы – а ведь уже близилась полночь.
Я вышел из вагона. На перроне стоял какой-то мужчина и курил. Завидев меня, он поздоровался, оказалось, это один из сыновей Льва Николаевича.
– А вы – врач?
Я подтвердил, что так оно и есть, и назвал свою фамилию.
– Вероятно, вы тоже подпали под обаяние моего отца? – спросил он. – Вам уже наговорили гадостей про мою мать?
Я заверил его, что только что провел более часа в обществе Софьи Андреевны и она произвела на меня впечатление любящей и заботливой жены.
– Она такой и была, пока мой отец не отверг ее! – заявил мой собеседник. Голос его дрожал то ли от волнения, то ли от сдерживаемой злобы. – Он – чудовище! Чудовище, отрицающее все и вся: государство, семью, закон, Церковь… Нас всех он ненавидит, он утверждает, что мы все имеем к нему дурное чувство зависти, что мы украшаем свое ничтожество его именем… – Голос его пресекся. – Он уже говорил вам о числителях и знаменателях? – вдруг спросил он.
– Эээ… нет, извините…
– Наверняка еще скажет! Впрочем, простите… Я вам докучаю.
– Нет, нет, нисколько! – поспешил ответить я. – Расскажите про числители, пожалуйста.
– Это его обычная шутка, – объяснил Лев Львович. – Числитель – это то, что человек собой представляет, а знаменатель – то, что он о себе думает. И из этой арифметики у него всегда выходит, что все вокруг него – ничтожества. Что почти у всех числитель стремится к нулю, а знаменатель – к бесконечности. Ну кроме его разлюбезного Черткова, вестимо! Не люблю я его: не умен, хитер, односторонен и не добр.
– Вижу, вы и отца недолюбливаете, – подытожил я. – Но зря вы думаете, что я успел подпасть под его обаяние. Или под обаяние господина Черткова. Последнего я нахожу крайне неприятным типом. – Конечно, у меня не было достаточных оснований для подобного суждения, но я полагался на интуицию и отчасти действовал из желания разговорить своего внезапного собеседника. – Расскажите мне об отце, – попросил я. – Скажите, какой он: добрый заботливый или, наоборот, – раздражительный?
– Доброта – это точно не про него! – усмехнулся мой странный собеседник. – Серьезный, всегда задумчивый, сердитый всегда и ищущий новых мыслей и определений – так он живет между нами, уединенный со своей громадной работой. С самого раннего детства нас приучали к уважению и страху перед отцом. Его все боялись.
– Все?
– Еще бы! Я вспоминаю, что каждый вечер управляющий приходил к нему, разговаривал с ним о делах, и часто мой отец так сердился, что бедный управляющий не знал, что сказать, и уходил, покачивая головой. Однажды отец в порыве ярости кричал на нашего воспитателя швейцарца: «Я вас выброшу из окна, если вы будете вести себя подобным образом».
И опять я вспомнил слова приват-доцента Ганнушкина: «Их аффективная установка почти всегда имеет несколько неприятный, окрашенный плохо скрываемой злобностью оттенок, на общем фоне которого от времени до времени, иной раз по ничтожному поводу развиваются бурные вспышки неудержимого гнева, ведущие к опасным насильственным действиям».
– А на практике он прибегал к насилию?
– Нет… Я не припомню.
– А с вами? С детьми?
– На нас он тоже то и дело кричал и по всякому поводу раздражался. Голос у него при этом становился тонкий и очень резкий. Если он играл с нами, то всегда пугал, – продолжил вспоминать Толстой-младший. – Особенно девочек… Обожал это делать. Водил их в лес с зажмуренными глазами, а когда разрешалось наконец глаза открыть, то мы должны были угадать, где находимся. Однажды вечером Таня и Маша возвращались откуда-то и, когда подошли к яснополянскому саду, услышали страшный рев. Девочки перепугались, бросились бежать со всех ног и успокоились только тогда, когда их догнал отец. В тот раз он был несколько смущен своей неудавшейся шуткой. – Он постарался рассмеяться, но у него это плохо вышло. – А вам как шуточка? Смешная?
– Странная шутка. Я бы сказал… неумная.
– Вот именно! Идиотская! – обрадовался он. – Дрянная шутка! Но его поступки не обсуждались, он был всегда прав. А мы всегда неправы. Когда кто-то из нас позволял себе подобное, острил и каламбурил, папа говорил: «Твои остроты вроде лотереи, когда вместо выигрыша выпадает пустой билет, называемый «аллегри». Когда шутил кто-то из нас, он обычно произносил это презрительное «аллегри!», что означало «ничего не вышло!».
В голосе его звенела давняя многолетняя обида. Я заметил, что мой собеседник страдает тиком, теперь, когда он разволновался, это стало особенно видно.
– Покойный дядя уверял меня, что отец переменился, что стал мягким и хорошим. Но я не верю в эту перемену! А вы читали его публицистику? Впрочем, откуда?.. Ее, к счастью, цензура запрещает – и правильно делает! Он же оправдывает анархистов! Пишет, что «самые добрые из убитых королей, как Александр II или Гумберт, были виновниками убийства десятков тысяч людей, погибших на полях сражений», а значит, королям и императорам не только нельзя возмущаться на случаи террора, но и должно удивляться, так как редки такие убийства после того постоянного и всенародного примера убийства, который они подают людям. Как вам такая логика?
– Софизм, – ответил я, пожав плечами.
– А Вы образованный человек! – заметил он. – Да, почитаешь, кажется, все логично, все одно к одному… а на деле – мерзость! Папа оправдывал террористов… Но в отличие от королей наш дядя никого на смерть не посылал. Он был инженером-путейцем.
– Простите, о ком Вы говорите? – не понял я.
– О мамином младшем брате. Его убили эсеры, – коротко пояснил этот странный человек. – Никто не сделал более разрушительной работы ни в одной стране, чем мой отец в России… Это из-за его влияния во время войны русское правительство, несмотря на все свои усилия, не могло рассчитывать на необходимое содействие и поддержку со стороны общества… Отрицание государства и его авторитета, отрицание закона и Церкви, войны, собственности, семьи… Что могло произойти, когда эта отрава проникла насквозь в мозги русского мужика и полуинтеллигента и прочих русских элементов? Из-за этой заразы на войне солдаты отказывались идти в бой, отказывались защищать Отечество…
Сигарета его догорела и слегка обожгла ему пальцы. Швырнув окурок на рельс, он вдруг оборвал разговор и, коротко поклонившись, скрылся в вагоне.
Я не мог не озадачиться мыслью, а нормален ли этот мой странный знакомец? Судя по мучившему его тику, по отрывистой манере выражаться и прочим деталям – не вполне[5].