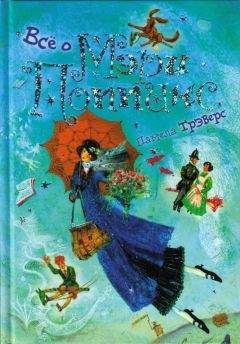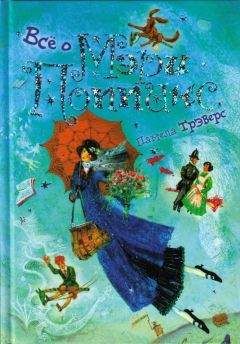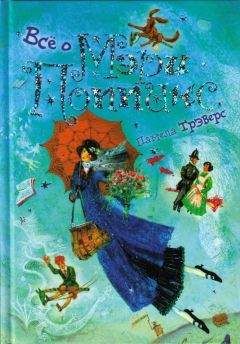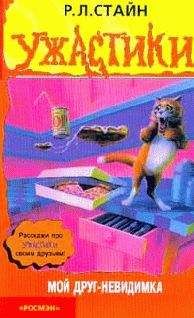Леонид Леонов - Взятие Великошумска
- Ты поглядывай кругом, Осютин, - неожиданно вставил Собольков, но никто не заметил его оговорки.
Теперь слушали Соболькова все: Литовченко, проснувшийся как по тревоге, слушал Обрядин, в интересных местах поталкивая Дыбка в плечо, чтобы обратил внимание, слушали американская, шибко помятая при аварии, девушка и Дыбкова несчастная сестра; самые стены танка, казалось, жадно впитывали человеческое тепло сказки. Она создалась давно, когда другие люди сидели вот также вокруг Соболькова: незабвенный Алешка Галышев, а рядом великан Осютин, едва умещавшийся в тесной башнерской келье, а наискось вниз - Коля Колецкий, верный друг, закопанный с дыркой в сердце в мерзлой россошанской земле. Потухшие цигарки не освещали лиц, и рассказчику казалось, что именно они слушали его, милые, непобедимые, все еще живые. Тогда Собольков еще не знал про измену жены, и сказка имела простодушный и счастливый конец.
- ...А Вырви-Дуба тем временем сварил последнюю солонину, горницу подмел березкой, сидит. Вдруг под ногами голос является, ссохшийся, не из ихних. "Полно носом-то клевать, отпирай!" Распахнул - никого за дверью, а только стоит при порожке удивительный дед, вполне карманный: четверть сам да бородища в три четверти. "А ну, пересадь меня через порог, - хрипит. - А ну, подмости под меня, чтоб я грудями до стола касался. Обедать наварил? Давай!" - "Не имею права, - Вырви-Дуба отвечает. - Питания не хватит на товарищей". - "Я тебе приказываю!" Да швырк ему полено под ноги. Повалил долговязого, спинку ему разрезал перочинным ножиком по это самое место, соли под шкуру насыпал, мякишем залепил, обед скушал - и до свиданьица!
- Ты уж не торопись, товарищ лейтенант, в сказке все - самое важное, сказал Литовченко.
- ...В ту ночь кое-как обошлись, а наутро Переверни-Гору оставили. Однако та же картина, только соли больше ушло. В третий раз Покати-Горошек остался. Дед ему командует: "Поставь меня на стол. Давай, а то время нет. Я люблю, когда меня хорошо кормят". - "Нет, это не те ребята, что вчера были", - Покати-Горошек отвечает. Дал ему хорошо, сбил, вытянул во двор за бородищу, еще дал для памяти... А там валялся дуб, водой подмытый. Он комель надколол, бороду запхал в трещину, сидит у окна, размышляет про свою королевну. "Когда я цвет твой увижу, яблонька моя?.." Приятели вернулись, смеются. "Соли-то хватило на тебя?" - спрашивают. А он: "Пойдем, покажу!" Смотрит - ни деда, ни дуба во дворе: сбежал. А этот дед был тот дед!.. Ладно, надо выходить из положения. Четыре километра шли они следом, как дуб корнями прочертил, видят - за кустами дырка в земле, а на дверце золотая шишечка - открылась. Заглянули - голова кругом пошла: бездонная трубища, в концу светлое пятнышко, но человек, между прочим, свободно пролазит. "А ну, рви корни, вей веревку... чего силе зря стоять! Вей аж до Берлина..." Те свили, дрожат, такой у них страх создался: а вдруг Покати-Горошек лезть их туда заставит? "Ладно, сидите уж тут, - он их утешает, - ждите меня месяц, а как дерну ту веревку, тяните потихонечку, чтоб не порвалась..."
- Я эту сказку слыхал, - вставил Обрядин, пока Собольков закуривал притухшую папироску. - Они все змеиные сокровища да кралю его наверх подымут, а самого внизу оставят.
- Нет, браточек, с тех пор подрос, умный стал Покати-Горошек, непонятно поправил Дыбок. - Еще кто кого, думается мне, обманет!
Сказано было гораздо больше, чем уместилось в пересказе. Там были камни и звери, говорящие на иностранных языках, прозорливые одноглазые старцы, реки, что в бурю гуляют на своих водяных хвостах, бездонные пропасти, куда скатывался заветный перстенек, и прочее, точно рассчитанное по времени Собольковым... Неторопливо подступал рассвет. В сизой мгле непоследовательно, как на негативе, проявлялись, бессвязные пока, черные и белесые пятна. Расстояния изменялись на глазах, но тьма еще надежно держалась в небе, и можно было лишь догадываться о значении смутной бахромы, протянувшейся по ровному ночному месту. И то чудилось, шевелился ближний кусток, то пригибался кто-то к земле, врасплох застигнутый обрядинским глазом. Теперь только сказка да мысль о солнышке и согревали продрогший экипаж двести третьей.
- ...Словом, долго он спускался, все руки ободрал. Огляделся, видит туда-сюда шоссейная дорога, на ней след от дуба процарапался. Ладно, двинулся по тому ориентиру. Жуть его забирает - под землю попал, а вокруг такая обыкновенность... только все как бы плохими спичками приванивает. А сердечко-то чует, как кличет она его: "Томлюсь в темнице, торопись, мой милый, пока не облетел мой пышный цвет!" Наконец видит - город. Средь зубцов развешаны на просушку туловища, руки... разные куски человечества, которое сюда достигало. Головы отдельно кучкой сложены, печально смотрят их впалые очи: "Мы тоже жили и стремились. Остановись, поприветствуй нас, путник!" А при самых вратах - и смех и грех - дед все с дубом возится. "Здорово, старик, - Покати-Горошек говорит и дает ему разок для просветления. - Теперь и я к вам в гости собрался. Сказывай, чьи хоромы и зачем геройские кости по стенкам висят?" Тот ему докладывает, что это есть дворец змея. А имеет он не семь, а все двенадцать голов и проживает с главной женой в боковом флигеле, налево за углом, пока меньшенькие подрастают. Их всего здесь, змеиных невест, девяносто восемь штук. Лет ему неисчислимо, а кости для острастки висят. "Сейчас, говорит, улетел на тот свет припить кое-что и для моциону перед обедом". - "Где ключи?" - "При мне". - "Давай сюда!" Подвязал брюки, чтоб какая ядовитая мелочь не заползла, и пошел. Разомкнул все три парадных крыльца - нет никого. Змеевы холопы, как завидят тросточку, так и прячутся... Идет, каждый уголок по имени окликает: "Милая, отзовись, вот он я!.." В одной комнате непочатые бочки стоят с провиантом, в другой - запасное хозяйское обмундирование зубчатые хвосты, зимние крылья на черном меху, когти разного размера... В третьей - товаров целый универмаг: отрезы, чулки, пишущие машинки. Разомкнул он десяту комнату - колена подломились. Сидит его краля за столом, нарядная... как они только нашему брату снятся! Однако с лица малость бледная... с зеленцой... не то от душноты подземного помещения, не то притомил ее прошлой ночкой змей. И при ей девочка сидит на стульчике, худенькая, о трех головках... Змеи им чай с вафлями подают.
Враз она голову повернула: "Вы чего хотели?" - интересуется. "Где, милая детка, твой муженек двенадцатиголовый?" - Покати-Горошек спрашивает. "А вам по какому делу?" - "Хочу его убить для всеобщей пользы". - "Не советую, - говорит и жует вафлю при этом, - а советую, гражданин, скоренько уходить. Он вас погубит". - "Что ж, я это теперь только приветствую..." "Хорошо, тогда обождите, - говорит, - в прихожей. Почитайте там газетки со столика!" А сама все дочку потчует: "Ешь, маленькая, ешь, а то У тебя малокровие разовьется!" И тут приметила она свой перстенек у Покати-Горошка - да прыг к нему через стол в его объятья. Дрожит вся, ластится, без умолку говорит: "Я тебя ждала, мне с ним жить хуже смерти. Я буду тебе верной женой. Хотя и обучил он меня различной музыке, но он меня, между прочим, и погубил. Ты сейчас покушай, выпей пока сто пятьдесят грамм, больше не надо, и ложись под койку. А как прилетит да заснет, ты ему головы отрубывай, а я буду в большую корзину складать, чтоб не приклеивались назад. Только остерегись, из его ушей иногда выскакивает опасное пламя... Будем с тобой жить, золота распечатаем, да я еще из одежды запасла. И не серчай, я тебе хорошую, справную дочку рожу, а эту сырой водицей напоим... может, и помрет, бог даст. И таким манерцем мы выйдем с тобой из положения".