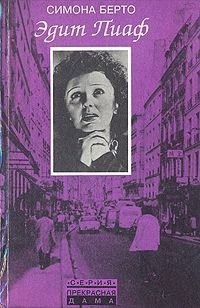Вячеслав Кабанов - Всё тот же сон
В общем, жили мы весело, но трудно кормились. Один из способов добычи корма был такой. Вечерами мы всем семейством делали на продажу почтовые конверты. Не знаю, откуда бралась бумага. Может быть, конверты просто покупали задёшево, чтобы, улучшив, продать дороже? Улучшение было художественным. Делалось это так. Из чистой бумаги вырезывались ножницами фигуры и буквы. Они накладывались на простой белый конверт, чтобы составилась композиция. Потом бралась зубная щётка, окуналась в блюдечко с цветной тушью, и щепочкой, скользящей по щетине, тушь разбрызгивалась равномерно вокруг вырезанного. Затем вырезки тихонечко снимались, и на белом конверте оставались белые рисунки и надписи, окаймлённые зелёным или синим облаком. Это было красиво. А композиции бывали праздничные или военные. Например, «С Новым годом!» — тут шли в ход ёлочки, зайчики и звёздное небо. Или — «Вперёд на Запад!» — здесь на пригорочке стояли два всадника в фуражках, и один протягивал руку куда-то туда.
Главной мастерицей по вырезыванию была тётя Вера, причём надо сказать, что резалось безо всякого наброска, по воображаемой и намечаемой глазом линии — в этом и было искусство. Я тоже приспособился, и даже сейчас могу из чистого листа вырезать лошадь.
Но потом подошёл вдруг такой момент, что конверты с надписью «Вперёд на Запад!» у нас конфисковали, потому что лозунг оказался политически ошибочным. Это, наверное, когда мы перешли границу и вступили в Европу.
Зато стали приходить от мамы посылки — это было хорошее подспорье. Ещё мама присылала нам немецкие открытки. От их красочности мы просто ошалели.
От успехов на фронте краснодарские власти впали в такой либерализм, что разрешили за городом, на пустующих землях сажать картошку. Мы посадили и ездили окучивать, полоть. Все возились с картошкой, а Ия не возилась, потому что у неё появился милый друг, и они гуляли вокруг картофельного поля, а до нас доносился бархатный баритон, выпевающий неведомые арии. Друга звали Дима, он тоже учился на врача — сначала в Казани, где отец его был медицинский профессор, а теперь перебрался в Краснодар. Злые языки говорили, я слышал, что Дима переместился сюда, чтобы уклониться от фронта. Если даже и так, то и правильно. Потому что Дима был обременён таким изысканным воспитанием, что не только ему самому, но и никому в голову не приходило, что он мог бы взять в руки лопату. Ну и что ж ему было бы делать на фронте?
Я думаю, что Дима и Юся сошлись на гигиене. После войны, когда они поселились в Геленджике, Дима стал ревностным организатором голых походов и загораний на Толстом мысу вне зависимости от пола участников, но придавал обнажению исключительно гигиенический смысл.
Тем не менее, у них с Ией довольно скоро родился Мишка. Он был удивительно хорош и белокур. Я сразу его полюбил и быстро вошёл в доверие. Настолько, что меня допустили к процессу воспитания. Я хорошо справлялся, но у Мишки была не только красивая, но и очень тяжёлая голова, она всё время перевешивала. Однажды я на секунду отвлёкся, а Мишка уже умел стоять в кроватке, держась за перегородку… Он глянул зачем-то вниз, и — голова его воткнулась в пол. Кричал Мишка, а испугался я. В другой раз он кувырнулся через спинку взрослой кровати, но упал не на пол, а, слава Богу, на печку, которая, правда, топилась. Хорошо, что затопили недавно: было уже не холодно, но ещё не слишком горячо, а так, в самый раз.
Картошка наша уродилась. Было воскресенье. Чудесное солнечное утро. Сели завтракать. Свежая картошка дивно пахла. Ради такого случая её сварили без мундира. И тут что-то произошло.
В нашем доме, если кто-то неожиданно приходил, даже и незнакомый, было делом обычным. Но тут что-то было не так. Тётя Вера встала из-за стола и прошла в комнаты. За ней — двое пришедших. Мне сказали: ешь. Я ел. Потом тётя Вера вернулась в кухню и вышла во двор вместе с теми двумя. Они шли через двор в сторону тарбазы: тётя Вера, а по бокам двое в фуражках и длинных, до пят, шинелях. Так и ушли.
Потом, во дворе, я услыхал, что тётю Веру «взяли» за то, что она работала «при немцах». То есть она продолжала быть врачом в той больнице, где была врачом и до войны. Через пять лет, уже в Геленджике, тётя Вера говорила:
— Как я могла не работать… А кто бы лечил? Да и дома, сколько было ртов, а я одна хоть что-то зарабатывала. А как я раненых красноармейцев в больнице сховала, так про то никто не спрашивал!
Тётя Вера любила вставлять в свою русскую речь украинско-кубанские словечки. От жизни в Краснодаре и мне они были привычны, а первое украинское слово я услыхал ещё в Широкой щели. Там один местный пацан обучал меня искусству кидаться камнями. Ученье началось с того, что он подобрал хорошенький плоский голыш, сильно размахнулся и с притопом закинул его за вершины деревьев. При этом с лихостью спросил:
— Бáчил?
Я, конечно, бáчил, но сначала вопроса не понял, а потом догадался по интонации и обстоятельствам дела, что действительно бáчил.
Баба Дуня как-то легко и быстро научила меня читать и писать. И вот мне попалась тоненькая книжечка сказок. Она начиналась так:
«Iшов дiд лiсом. А за ним бiгла собачка. Та й загубiв дiд рукавичку…»
Я и не понял, что книжечка не на русском языке. Оказалось, что мне всё равно. И когда в Москве, в четвёртом что ли классе, нам преподали Шевченку, то в учебнике, помню, были два шевченковских разноязычных текста: «Завещание» и «Заповiт». Когда прочитали и разобрали «Завещание», учительница сказала, что хорошо бы послушать, как стихотворение звучит по-украински.
— Кто-нибудь может прочитать?
Я замер, потому что — мог. Но сказать про себя постеснялся. А учительница (после паузы) сказала:
— Может быть, Левченко? Он у нас украинец.
Бедный Левченко встал, взял учебник и, спотыкаясь, заикаясь и смешивая разноплемённые звуки, на совершенно макароническом наречии промучил текст до «Як реве ревучий», после чего учительница сжалилась и сказала, что хватит.
А я сидел, страдая от того, что мене уж никто не пом’янет незлим тихим словом, хотя я мог прочесть без запинки всё подлинное стихотворение — выразительно и даже наизусть.
Ещё по Краснодару запомнились мне две книги. Одна — большая и цветная — была посвящена строительству Дворца Советов. Там было много больших картинок, но не они меня сразили, а пояснение, что у статуи Ленина — на самой верхотуре Дворца — его указательный палец, указующий светлый путь, один только палец будет длиной в пять метров. Куда до этого гигантоману Церетели!
Вторая книга была «Порт-Артур» Степанова. Она была удивительна тем, что имела надпись рукою автора, посвящённую тёте Вере, которая лечила автора здесь, в Краснодаре, перед самой войной. Я читал из этой книги какие-то военные эпизоды и потом долго думал, что я эту книгу читал, пока, наконец, через много лет не догадался взять и всё же прочитать.