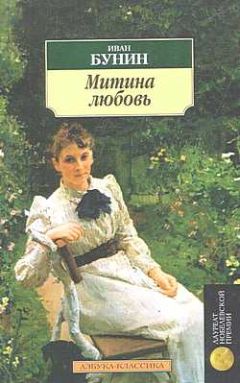«Чувствую себя очень зыбко…» - Бунин Иван Алексеевич
Что есть у какого-нибудь Есенина, Ивана Непомнящего? Только дикарская страсть к хвастовству да умение плевать. И плевать ему легко: это истинный Иван Непомнящий. В степи, где нет культуры, нет сложного и прочного быта, а есть только бродячая кибитка, время и бытие точно проваливаются куда-то, и памяти, воспоминаний почти нет. Другое дело Толстые. Как замечательны слова Толстого о той боли, с которой он старался “вспомнить” что-то после обморока! О, Толстым есть что вспомнить! А воспоминание, – употребляю это слово, конечно, не в будничном смысле, – живущее в крови, тайно связующее нас с десятками и сотнями поколений наших отцов, живших, а не только существовавших, воспоминание это, религиозно звучащее во всем нашем существе, и есть поэзия, священнейшее наследие наше, и оно-то и делает поэтов, сновидцев, священнослужителей слова, приобщающих нас к великой церкви живших и умерших. Оттого-то так часто и бывают истинные поэты так называемыми “консерваторами”, то есть хранителями, приверженцами прошлого. Оттого-то и рождает их только быт, вино старое. И оттого-то так и священны для них традиции, и оттого-то они и враги насильственных ломок священно растущего древа жизни.
Произведения Толстого есть лучшее доказательство богатства его натуры и ее разносторонности, столь отличной от искусственной и бездушной “многогранности” наших современников. В этих произведениях много и прямых самохарактеристик: “Коль любить, так без рассудку…”, “Господь, меня готовя к бою, мне душу пылкую вложил, но непреклонным и суровым меня Господь не сотворил…”, “Двух станов не боец, а только гость случайный…”, “Что ни день, как полымя со влагой, так унынье борется с отвагой…” И самохарактеристики эти лишний раз подчеркивают, что это была натура все-таки прежде всего русская, что поэзия Толстого есть действительно “русский глагол”. А самохарактеристики в его письмах, дневниках? Вот его чудесные письма к жене:
– Я верю в Бога всецело и безгранично… Нам, быть может, еще много лет жить на этой земле – будем же стараться быть лучше и достойнее…
– Я не хозяин… Я уже давно утратил чувство собственности, если только я когда-нибудь имел его…
– У меня чувство роскоши очень развито. Я люблю, чтобы были великолепные дворцы, художественные шедевры, но сам я не люблю их иметь. Я их люблю, я ужасно страдаю, когда их портят, когда ими пренебрегают, но сам я ни за что не согласился бы жить в роскошном дворце. Луи Блан проповедует коммунизм и против роскоши, а сам ест дичь с ломтиками ананаса – ты видишь, что он свинья…
– Мой ум под влиянием страстей, но он направлен к добру, к прекрасному, к искусству…
– Я не знаю, как это делается, но почти все, что я чувствую, я чувствую художественно…
– Я не знаю, как другие пишут, но у меня при приближении звуков волосы подымаются и слезы брызгают из глаз…
– Одно время, в молодости, я всецело жил в веке Медичи, я принимал к сердцу произведения этого столетия с таким чутьем, пылом и энтузиазмом, как это мог сделать только современник Бенвенуто Челлини…
Прибавлю к этому и еще несколько цитат – из писем Толстого к друзьям.
Вот он клеймит гонения на национальности, составляющие население России, клянет принудительное, деспотическое обрусение их.
Вот он говорит о Европе, допускающей гибель кандиотов: “Европа выходит из своей роли и поступает по-татарски, и я отказываюсь от такой Европы”.
Вот его горячие строки о монархии и деспотии: “Я слишком художник, чтобы нападать на монархию… Но я ненавижу деспотизм, ненавижу так, как ненавижу Сен-Жюста, Робеспьера…”
Итак, кто же перед нами? Иоанн из Дамаска, соправитель калифа, а потом песнопевец и святитель Божий, или же Илья из Мурома?
Как видите, на Илью похоже. Но ведь похоже и на Иоанна. Рыцарь или витязь? И опять ответ выходит как будто двойной. “Я жил в веке Медичи”. Или из другого письма к жене: “Как в Витбурге хорошо! Даже есть инструменты миннезингеров двенадцатого века. И у меня забилось и запрыгало сердце в этом рыцарском месте, и я знаю, что прежде я к нему принадлежал”. Но ведь билось, прыгало сердце не меньше и в другом месте:
И ведь сам же Толстой сказал про себя: “Я не принадлежу ни к какой стране – и принадлежу всем. Моя плоть русская, славянская, но душа общечеловеческая”.
Сущая правда, все великие души таковы. Но человеческое – одно, а интернационализм или русско-планетарное Неуважай-Корыто, Бога не знающее, родства не помнящее, – другое.
Илья из Мурома или Иоанн из Дамаска? Но ведь оба ходили по мраморным плитам – и оба жаждали поклониться “государыне-пустыне”, оба несли подвиги Божий – и оба во святых Его: ведь и Илья почиет в Киевских пещерах.
В <18>69 году Толстой записал о себе: “Я западник с головы до ног, и настоящий славизм западный, а не восточный”. Это в его устах значило: Русь киевская, с Святогором, с Феодосием Печерским. “Собирание земли, – писал он далее. – Собирать хорошо, но что собирать? Когда я вспоминаю о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов, мне хочется броситься на землю и кататься от отчаяния!” – Что бы он сказал теперь?
Теперь дело обстоит много, много хуже. Теперь в стихах пролетарских хвастунов даже заборы растут и за этими “заборами низкорослыми” молитвы совершаются на единственном языке, известном российским поэтам, – то есть на матерном (“Богу молюсь матерщиною”). Теперь революция в поэзии выродилась, как в жизни, в большевизм и, достигая своего апогея, притязает, как и большевизм, на монопольный руссизм и даже на мессианство.
“Я обещаю вам Инонию!” – Но ничего ты, братец, обещать не можешь, ибо у тебя за душой гроша ломаного нет, и поди-ка ты лучше проспись и не дыши на меня своей мессианской самогонкой! А главное, все-то ты врешь, холоп, в угоду своему новому барину!
“Луи Блан проповедует коммунизм, а сам ест дичь с ломтиками ананаса – ты видишь, что он свинья”.
Если на русских свиней даже и на всех хватит ананасов, все-таки они останутся свиньями. Но это никак не есть идеал будущей России.
Российская человечина
У Ивана Ивановича жизнь запомнилась городом с деревянными заборами, калиткой во двор, тяжелым запахом человечьего жилья…”
“И там, за десятилетиями, запомнился промозглый вечер, уж очень, до судороги в горле, пропахший человечиной: это был вечер, когда он прогнал свою жену, изменившую ему… И был тот промозглый вечер, тот вечер, когда человеку страшно на земле от удушья человечины. Это не был вечер, это была полночь. За окнами лил дождь, и там надо было колоть глаза…”
“Жена повернулась круто, хлопнула дверью… Он бросился в сени, в тяжелый запах жилья…”
Но жена ушла. “И жизнь ее в годы после этого была похожа на очень яркий, пестрый платок, на цыганскую шаль, которую навертели на руку, завихрили, вихрили около загородных домов, свечей, и от давних дней в запахе ее затаился запах человечины. Потом эта шаль развилась, упала в очень удушливый человеческий мусор…”
А Иван Иванович все жил и жил один, “в десятилетиях”. “И тут надо в скобках сказать, что эти дни бытия Ивана Ивановича привели его в великую русскую революцию…” Однако Иван Иванович жил по-прежнему. “Над его жизнью продул тот ветер, что пахнет человечьим жильем…” И было у Ивана Ивановича два сына: один от него, а другой – от любовника его умершей жены. Оба долго жили “далеко от Ивана Ивановича”, в разных местах, причем один, законный, был человек здоровый и “военком”, а другой – просто больной, полукалека. Наконец они встретились, подружились и решили ехать к отцу. Но отец “всей кровью, всей ненавистью помнил ту промозглую ночь, пропахшую человечиной, когда он прогнал изменницу…” Братья съехались в том городе, где он жил. “И были осенние сумерки, когда от дождей особенно удушливо пахнет в сенцах, – это было время, когда уже отгромыхала революция…” И первым к Ивану Ивановичу явился его незаконный сын, с нежным криком: “Папа!” Но Иван Иванович выгнал его, – “не имею чести вас знать!” И сын ушел от него, к брату. И братья решили про отца, что он негодяй, и уехали. И остался Иван Иванович опять один и опять пережил страшную ночь, “как человек, жизнь которого пропахла человечиной…”