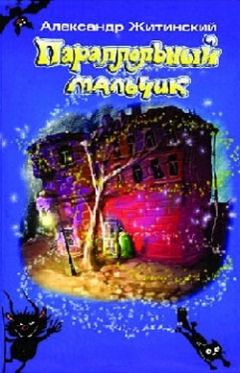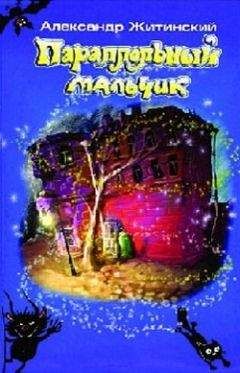Александр Стекольников - Васил Левский
«Действительно, эти турки были зарезаны напрасно, но могли ли мы поступать иначе? — писал позже воевода[33]. — Если бы мы выпустили их живыми, то, может быть, не спасли бы своих голов. Турки могли бы дать знать о нас войскам. «Чем они будут бегать да призывать войско, которое будет за нами гнаться по дели-орманским равнинам, то лучше будет, если мы их уничтожим», — сказал я своей дружине. Если бы мы были в Балканах, где нас трудно словить, то эти турки остались бы живыми».
Дели-орман — местность лесистая, но на редкость безводная. Рек нет, а колодцы только в селах, куда заходить остерегались. Нашли грязную лужу — напились. Трудно было с продовольствием. Ели крапиву с солью. Повстречался караван турецких купцов. Остановили, забрали хлеб, шали и фески. Хлеб съели, шали и фески раздали в пути болгарам.
Местью угнетателям не тешились, но в случае нужды творили суд скорый и справедливый.
«По дороге к Осман-пазару ночь была лунной, видимость хорошая. Впереди, — рассказывал участник похода Васил Николов, — мы увидели лесок, из которого вышли два турка с топорами. Мы остановили их. Они приняли нас за турок. Пока мы с ними разговаривали, из села донеслись песни. Турки сказали, что это поют болгарки. Один из нас спросил турка, есть ли у него знакомые болгарки. Турок хвастливо ответил: «Подумаешь, в любом селе возьмешь болгарскую девушку, хоть поповскую дочь, если захочешь!» Левский рассвирепел, хотел тут же зарубить турка, но воевода приказал связать наглеца.
Пошли дальше. Встретили сельского старосту. Воевода устроил ему допрос. Староста признался, что силою отобрал у болгарского крестьянина триста грошей. Осудили его на смерть. Левский и я исполнили приговор».
Но когда позже, в горах под Сливеном, после стычки с турецким отрядом Левский узнал, что среди убитых преследователей оказались поляки-эмигранты и болгары, он заплакал. Ему, у которого не дрогнула рука при наказании врага, стало жаль несчастных, по слепоте своей выполнявших роль защитников угнетателей.
На седьмой день увидели впереди зеленые склоны Стара Планины, седого Балкана—гнезда гайдуцкого. Взыграло сердце юнацкое. Подтянулись, приободрились дружинники, запели:
На Балканах ветер, воя,
И метет и кружит,
А юнак зовет трубою:
«Братья, все к оружью!
Братья, время! Поднимайтесь,
К воле пробуждайтесь,
Рабство и тиранство рушим,
В бой пойдем с оружьем!
Кто болгарином быть хочет,
Биться вместе с нами,
Пусть скорее саблю точит,
Поднимает знамя!
Стара Планина! Какое болгарское сердце не растревожит она. Какой болгарин не умилится дивной красотой ее, не возгордится боевой славой ее, не склонит скорбно голову перед прахом павших в лесах ее. Самые святые, самые ласковые слова болгарин связал с именем ее. Для него Стара Планина — мать родная, Балкан — отец седой [34].
Трагические перипетии исторической жизни болгарского народа оставили свой след на этой каменной громаде. Несокрушимым щитом вставала она перед ордами иноземных захватчиков. Когда чужая сила одолевала болгар, у Стара Планины находили они защиту. В ее горах и лесах, вдали от поработителей, собирались они с силами, хранили заветы дедов, свою народность, свой язык.
На Стара Планине зарождались восстания. В ее дебрях неугасимо пылал веками дух народного свободолюбия. Здесь гуляла удаль молодецкая. Спроси гайдука, где его дом, где его мать, и он ответит:
Дом мой любимый — лес нелюдимый,
Стара Планина — вот моя мать.
Нет здесь такого потока, который не омыл бы раны бойца, нет такого дерева, корни которого не напоены кровью.
Зачарованные видением «закутанных в туман отрогов синих гор, задумчивых Балкан», размечтались воины гайдуцкой четы Панайота Хитова. Кто вспомнил пережитое, кто витал на крыльях легенд. И сам воевода, покручивая свой длинный ус, повел такой рассказ:
—- Вспоминается мне первый выход на Балканы. Было это в 1858 году. Остановилась наша чета на том месте, которое называется Равно Буче, или Царски Извор. Я не в состоянии описать те впечатления, которые испытало мое сердце, когда мы остановились здесь.
Представьте себе, что это было весною, деревья только что покрылись нежными бледно-зелеными листьями; сливы, яблоки и груши цвели, воздух был чист, ароматен и прохладен. Все это действует на душу человека так нежно, что располагает его любить не только свое отечество и порабощенную братию, но даже и своих неприятелей. Сказать вам по правде, в то время я был готов обнять даже кровных врагов, если бы только они позволили и моим братьям жить спокойно, свободно и счастливо, наслаждаясь природой.
Но такое настроение продолжалось недолго. У подошвы горы находилась болгарская деревня, которая в состоянии заставить и камни возопить о мщении. Эта деревня была полуразрушена, ограблена и обесчещена. Даже деревца, которые находились на дворах, верно исполняли султанскую волю: их ветви были обнажены и не давали прохлады измученным поселянам. Крыши домов провалились, почернели и стали не годны, так что измученный телом и разбитый сердцем селянин не мог найти под ними защиты ни от осенних дождей, ни от сильных зимних стуж. Болгары, живущие у больших дорог, достойны искреннего сожаления... Кто желает составить себе понятие, что такое раб, тот пусть внимательно вглядится в болгарского крестьянина и болгарскую крестьянку в этих деревнях, и если его сердце не вскипит от негодования, если он не пожелает отомстить тем, которые уничтожили в них человеческую личность, сделали из человека четвероногое животное, убили в нем всякое человеческое чувство и человеческий смысл, то он и сам не человек.
Жажда мести и сделала меня гайдуком. Мой отец разводил коз и овец. Богатство его было среднее. Когда мне исполнилось двенадцать лет, отец взял меня с собой и поручил пасти коз. Так я вырос в горах, при козах и выучился еще с малолетства носить ружье и ценить свободу вольного человека...
В 1855 году умерла моя мать. Из-за дележа наследства попал я в турецкий суд. Полицейский повел меня в судилище. Стыдно было идти в сопровождении полицейского, и я сказал ему: «Оставь меня, и я сам приду через несколько минут». Но турок захотел осрамить меня перед людьми — схватил за шиворот и потянул насильно. Это турецкое нахальство вывело меня из терпенья. Я схватил султанского чиновника в охапку и швырнул его в грязь. Но вот началось судопроизводство. Что бы я ни говорил, судья замечал: «Молчи, нечестивец, я не хочу слушать твоих речей. Ты достоин виселицы!»