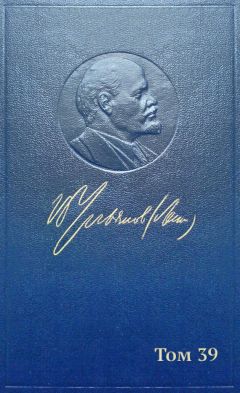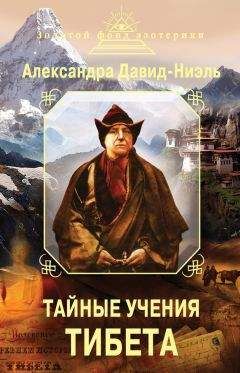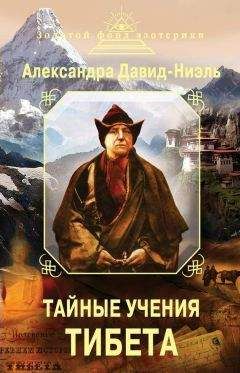Давид Ортенберг - Июнь-декабрь сорок первого
Ранило его на одной из переправ. Осколком немецкой бомбы вырвало вместе с куском сапога кусок мышцы. Когда ему делали первую перевязку, он еще нашел в себе силы для шутки: вот, мол, и под Ухтой и здесь в одну и ту же ногу ранение получил, а говорят, что по законам баллистики двух попаданий в одно место не бывает.
Но вскоре стало не до шуток: на раненую ногу ступить нельзя. Разволновался, конечно, начала одолевать тревога: оставят где-нибудь в деревне лечиться, а там, глядишь, немцы и вылечат...
В такую минуту горестного раздумья и подошел к нему Галицкий. Спросил участливо:
- Ну, как, товарищ старший политрук? Теперь, надеюсь, вы и без моей помощи прекрасно ориентируетесь в обстановке?
Поляков сидел на стволе упавшего дерева. Извинился, что не может встать.
- Сидите, сидите, - сказал генерал, сам подсаживаясь к нему. - И тревожиться не надо. Я ведь чую, о чем вы думаете. Так вот знайте: любая машина, любой конь - для вас. Вы очень нужный нам человек...
И действительно, как бы тяжело ни складывалась обстановка, Галицкий не забывал о Полякове.
Однажды корреспондент с другими тремя командирами ехал из полка на командный пункт дивизии. По пути напоролись на немцев. А тут, как назло, иссякли в машине остатки горючего. Надо скорее уходить пешком. Поляков же и шага ступить не может. Товарищи предложили вынести его на руках. Он наотрез отказался:
- Проваландаетесь со мной и сами пропадете. Не теряйте времени, идите. Если будет возможность, вернетесь за мной ночью...
И, запасшись гранатами, залег в кустах.
Когда об этом доложили генералу Галицкому, он тотчас организовал поиски корреспондента и спас его.
- Было такое дело, - подтвердил Кузьма Никитович много лет спустя после войны, на одной из встреч с московскими литераторами.
Мы тогда искренне поблагодарили его за это, на что последовал такой ответ:
- Но и Поляков много сделал для нашей Железной...
И, наверное, Галицкий прав. Повествование Полякова увековечило подвиг дивизии, многих его бойцов, командиров и политработников.
* * *
Наша печать в ту пору отмечала, что очерки Полякова останутся историко-художественным документом целого этапа войны с гитлеровцами. Следует отметить, что это была первая документальная повесть о войне. Написана она была мастерски. Немногословно и точно донес Поляков суровую правду войны, четкими штрихами рисовал людей, товарищей по боям, красочно писал живые сценки, колоритные диалоги, точно подмечал детали фронтовой жизни и быта:
"Ездовые забрались с передками в сторону от дороги, в густой осинник. Человека три охраняли, человек тридцать спали. Но как спали? В обнимку с лошадьми. Бойцы говорят, что это для большей боевой готовности: вскочил по тревоге - и уже на коне, можно мчаться к орудиям. Некоторые откровенно признаются: с конем на земле спать теплее..."
Или такой эпизод:
"Дед походил на сказочного водяного, только что вылезшего из своего омута. С косматой непокрытой головы и с плеч свисали клочья мха и длинные водоросли. Насквозь мокрая полотняная рубаха и штаны плотно облегали его еще довольно крепкое тело. На лице, обросшем негустой окладистой бородкой, даже в ночной темноте выделялись живые с хитрецой глаза.
Корпяк - тоже мокрый до нитки, но и в этом виде не терял своего командирского облика.
- Где так вымокли?
- Пришлось в одном месте вести наблюдение из... пруда, - ответил комиссар".
Иные словечки, шутки были подслушаны в самые драматические моменты:
"Каждый избрал себе дерево или куст... Одному лишь Вайниловичу нет дерева по его росту - так высок этот самый длинный человек в нашей дивизии. Над ним шутят:
- Ты во время бомбежки становись во весь рост и замри - сверху трудно будет отличить тебя от дерева. Сам - сосна!"
Очерки Полякова сыграли также в своем роде роль "науки побеждать" врага в условиях окружения. Они учили войска в труднейшей обстановке чувствовать себя не обреченными, беспомощными "окруженцами", а "боевой частью, действующей в тылу врага", как правильно сформулировал командир легендарной дивизии.
Воинский и литературный подвиг Александра Полякова был отмечен вторым орденом Красного Знамени. И этот орден вручал ему опять-таки Михаил Иванович Калинин.
6 августа
Напечатаны стихи Константина Симонова "Секрет победы". Это было уже второе его стихотворение на страницах "Красной звезды". Первое - "Презрение к смерти" - было опубликовано 24 июля. А вообще-то он появился в нашей газете, как я считал, с опозданием на месяц.
Симонов работал с нами на Халхин-Голе. О нашей первой встрече и совместной работе в "Героической красноармейской" уже писалось - и самим Симоновым, и мною. Тем не менее кое-что нужно, по-видимому, напомнить. Для прояснения последующего.
Каждый день боев с японскими захватчиками рождал новых героев. Наша фронтовая газета рассказывала о них, используя все формы журналистики: информативные заметки и корреспонденции, очерки и статьи. Но многие подвиги халхингольцев прямо-таки просились в стихи, в поэмы. А писать их некому; в составе редакции не было ни одного поэта. Я и послал телеграмму в ПУР с просьбой прислать одного поэта.
Спустя несколько дней, в жаркое монгольское утро приподнялся полог юрты, в которой я работал и жил вдвоем с Владимиром Ставским. Вошел высокий, стройный парень в танкистском обмундировании, с чемоданчиком в руках. Поздоровался на гражданский манер и молча предъявил командировочное предписание ПУРа - обычное по форме, но несколько таинственное по содержанию: "Интенданту 2-го ранга Константину Михайловичу Симонову предлагается отбыть в распоряжение редактора "Героической красноармейской" для выполнения возложенного на него особого задания".
Тут же, однако, выяснилось, что Симонов никакой не танкист и не интендант, а поэт. Утром его вызвали в ПУР, а днем он уже сидел в вагоне транссибирского экспресса и мчался в Монголию. Не успел даже экипироваться в Москве. Сменил свой гражданский костюм на военную форму уже там, где размещались фронтовые тылы. Не нашлось по его росту общевойскового обмундирования, и его облачили в танкистское. А интендантское звание он получил по той же причине, что и некоторые другие писатели, о чем я уже рассказывал.
Прочитал я предписание и уставился на поэта оценивающим взглядом. Этот мой, вероятно, чересчур пристальный взгляд Симонов истолковал не в мою пользу. Потом в своих воспоминаниях о Халхин-Голе он написал: "Человек, с которым мне потом пришлось не один год вместе работать и дружить... в первую минуту мне очень не понравился: показался сухим и желчным". Не скажу, чтобы и я сразу пришел в восторг от нашего нового сотрудника. Мы все считали, что командировка на Халхин-Гол - большая честь, выражение большого доверия; не каждому дано удостоиться этого. Думалось, что к нам пришлют именитого поэта, а о Симонове я в ту пору ничего не слыхал: ни хорошего, ни плохого.