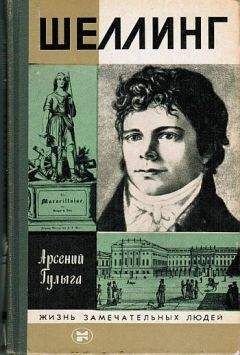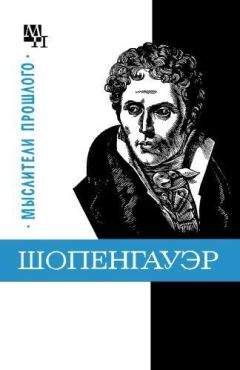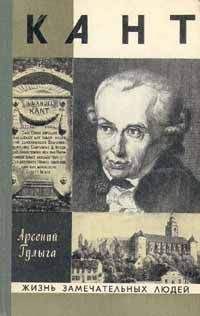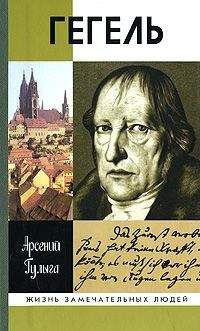Арсений Гулыга - Шопенгауэр
Работа поглощала его, он не страдал от одиночества, но были моменты, когда чувствовал свою покинутость. Он стремился избавиться от этого чувства, но ему это не удавалось. «Любое общение с другими, — писал он в дневнике в 1814 году, — уместно только при условии взаимного ограничения, взаимного самоограничения; для этого нужно при каждой беседе выказывать покорность» (134. Bd. 1. S. 95). Это самоотречение (резиньяцию) Шопенгауэр определяет как искусство «заторможенного соучастия». Когда одиночество выдерживать невозможно и ищут общества, получается, что оба — общество и одиночество — связаны друг с другом, а это значит, что нужно учиться «и в обществе быть также одиноким; не все, что думаешь, сообщать другим; стараясь в точности понять то, что говорят, не ожидать от других многого в интеллектуальном и моральном плане, оставаться равнодушным к их мнению, чтобы ни в коем случае не утратить хладнокровия. Следовательно, находясь среди людей, никогда не следует целиком погружаться в их общество; для этого необходимо отказаться от того, чтобы слишком многого от них требовать, рассматривая людей, как они есть, всегда только как объект… не входя с ними в тесное соприкосновение, всегда удерживая дистанцию; не быть ими уязвленным или запачканным. При таком подходе общество можно сравнить с огнем, у которого умный греется в некотором отдалении, но не лезет в него, как идиот, который, обгорев, бежит в холод одиночества и вопит, что огонь жжет. Конечно, требуется терпение: ни мясо, ни рыба; ни одиночество, ни общество» (134. Bd. 1. S. 113).
У Артура были знакомые, но не было друзей. В определении дружбы он придерживался строгих критериев: «Любое благо достижимо только в своей собственной сфере, и владения на чужой территории не дают значимых результатов. Любовь, красота, молодость достаются только любовью, красотой и молодостью; деньгами или силой ими овладеть нельзя, это иллюзия; … дружба, любовь и привязанность завоевываются только дружбой, любовью и привязанностью… Чтобы узнать, сколько счастья некто может получить, нужно знать, сколько он может дать» (134. Bd. 1. S. 101). Такова была правда жизни. Он глубоко прочувствовал это.
У него не было друзей, потому что он не мог доверять людям, а не доверял он им потому, что не умел дарить свою любовь. Способен ли он был любить вообще? Была ли у него тоска по любви и дружбе? Адель писала в дневнике о своем брате: «Кто никогда не любил, тот не может доверять». Думается, сестра Артура не права. Скорее всего, всю жизнь его мучила непреодоленная, неразделенная любовь к матери, не находившая с младых ногтей эмоционального отклика. Это чувство закрепилось в отчужденности от людей и в недоверии к близким и людям вообще, в первую очередь к женщинам. Скандал в Веймаре — оборотная сторона непонятой и непринятой любви.
Естественно, Артур вскоре прослыл за чудака, про которого говорили, что он собирается осчастливить мир. Как он собирался это сделать, никто не знал; чему он хочет учить, никто не догадывался. Его диссертация в Дрездене была совершенно неизвестна. Никто не ожидал от него нового слова, однако многие страшились либо дивились его остроумию и сарказму.
Театральный антрепренер и писатель барон фон Биденфельд (1788–1862), который познакомился с Артуром в Дрездене и помогал ему в издании его главного труда, писал о нем как о человеке весьма порядочном, жестком и подчас сухом; в научных и литературных вопросах, указывал Биденфельд, он придерживался неординарных и твердых суждений; его остроты были прелестны, хотя иногда это был грубый юмор; нередко его облик — белокурые волосы, горящие серо-голубые глаза, глубокие носогубные складки, сдержанная и в то же время резкая жестикуляция — казался мрачным.
Стремясь приобщиться к «обществу», где он мог бы утолить свои полемические пристрастия, Артур посещал итальянский трактир «Чиапонне», где под прокуренной крышей за итальянским салями, фаршированной колбасой и пармской ветчиной выпестовался авторитетный литературный кружок Дрездена: здесь собирались сотрудники дрезденской «Вечерней газеты», литераторы национального призыва Фридрих Лаун, Теодор Хелль, Фридрих Кинд и другие. Эта группка — называлась она «Хоровой кружок» — претендовала на общегерманскую популярность, пропагандируя традиционное воспитание, умеренность в политике, а в литературе и философии субботнюю безмятежность. Здравый человеческий рассудок был в этом кругу особенно и даже избыточно здравым. Теодор Хелль, издатель «Вечерней газеты», украшал ее, например, такими стихами: «Когда я устаю от работы / вечером отдыхаю /… / сажусь и читаю / новейшую книгу наших певцов. / Так сижу я среди цветов / вдыхая их чудный запах».
Шопенгауэр захаживал в «Чиапонне», так как любил итальянскую колбасу и знал, что устрашит «пивных матадоров» — завсегдатаев. У него не было недостатка в слушателях и зрителях, которые сбегались послушать, как он сокрушает корифеев, городских законодателей моды и нравов. В полемике, которая неизбежно возникала, Шопенгауэр с непримиримой прямотой бросал в лицо этой «литературной клике», как он ее называл, полные сарказма инвективы, часто пересаливая, адресуя им острейшие изречения из Шекспира и Гете. «Все боялись его, — пишет Биденфельд, — и никто не осмеливался состязаться с ним как равный с равным» (цит. по: 124. S. 294).
Тем не менее с одним из членов «Хорового кружка» у Шопенгауэра сложились почти дружеские отношения. Это был Фридрих Август Шульце, известный под псевдонимом Фридрих Лаун, которого Шопенгауэр в поздние годы называл «своим добрым, любимым, верным, старым Шульце». Он дал Артуру прозвище «Юпитер-громовержец», он помогал ему выпутаться из любовной аферы. В деталях эта история неизвестна. Во всяком случае, в декабре 1816 года Артур писал об этом своему другу детства Антиму, от которого не таил своих любовных похождений. Письмо Артура не сохранилось, имеется лишь ответ на него Антима: «Кажется, ты сильно влюблен, мой добрый друг, это прекрасно. По правде говоря, как опытный практик, я не убежден, что верность твоей красавицы продлится долго. Извлеки между тем пользу из самообмана» (135. S. 105). Быть может, речь идет здесь о «девушке в Дрездене», о которой Адель пишет весной 1819 года в своем дневнике, что она «в интересном положении», и возмущается: о браке нечего думать, так как девушка из низшего сословия. Но Артур, замечает при этом Адель, принимает все это «правильно и хорошо».
В целом, следуя своему душевному складу, Шопенгауэр жил потаенной жизнью. Его настроения ни в чем не проявлялись, их окутывала внешняя размеренность и пунктуальность его житейского уклада, подчиненного книгам и занятиям, требующим одиночества. За оградой однообразия и изоляции развертывалось великое путешествие — страстное движение к завершению концепции в его большой книге. Быть может, права была его квартирная хозяйка, которая однажды дала выразительное наименование проявлениям почти экстатических переживаний, которыми была в то время отмечена его внутренняя жизнь. Когда Шопенгауэр как-то вернулся домой из оранжереи Цвингера с цветком в петлице пальто и лепестках, осыпавших шляпу, она воскликнула: