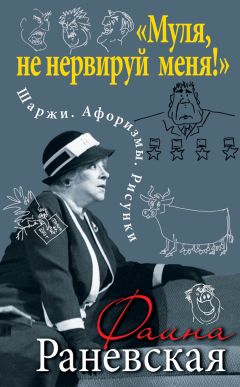Фаина Раневская - Я – выкидыш Станиславского
В начале 1946 года, чувствуя, как над ее головой сгущаются тучи, Анна Ахматова напишет:
Не дышали мы сонными маками,
И своей мы не знаем вины.
Под какими же звездными знаками
Мы на горе себе рождены?
И какое кромешное варево
Поднесла нам январская тьма?
И какое незримое зарево
Нас до света сводило с ума?
Фаина Георгиевна нанесла визит к Анне Андреевне сразу после «Постановления». Ахматова открыла ей дверь и жестом пригласила войти. Хозяйка молчала, и гостья тоже не знала, что ей сказать. Так же молча Ахматова легла и закрыла глаза. Раневскую удивило то, как менялся цвет лица подруги. Оно то становилось багрово-красным, то тут же, на глазах, белело. Губы тоже меняли окраску — то синели, то белели.
Через какое-то время после потрясения, вызванного пресловутым постановлением, Ахматова, долгое время безвылазно сидевшая дома, стала выходить на улицу. Раневская нередко сопровождала подругу в этих прогулках. Ей запомнилось то, как Ахматова подводила ее к газете, прикрепленной к доске, и говорила: «Сегодня хорошая газета, меня не ругают».
Однажды Анна Андреевна не выдержала. «Скажите, Фаина, зачем понадобилось всем танкам проехать по грудной клетке старой женщины?» — спросила она, горько усмехнувшись, и более ничего не сказала. Когда Раневская пригласила ее пообедать, Ахматова согласилась: «Хорошо, но только у вас в номере». Видимо, она боялась встретить знакомых. То ли она не желала слышать пустых расспросов и стандартных, бездушных слов сочувствия, то ли (и это скорее всего) не желала новых разочарований в людях, вдруг переставших «узнавать ее».
В один из этих страшных, тягостных ее дней Ахматова спросила: «Скажите, вам жаль меня?» — «Нет», — ответила Фаина Георгиевна, с трудом сдерживая слезы. «Умница, — похвалила ее Ахматова. — Меня нельзя жалеть».
Не «не надо жалеть», а «нельзя жалеть».
Раневская искренне радовалась за подругу, когда к той вернулась слава. Так в письме Эрасту Гарину и его жене, написанном в марте 1965 года, она сообщала: «Была у меня с ночевкой Анна Ахматова. С упоением говорила о Риме, который, по ее словам, создал одновременно и Бог и сатана. Она пресытилась славой, ее там очень возносили и за статью о Модильяни денег не заплатили, как обещали. Премию в миллион лир она истратила на подарки друзьям, и хоть я числюсь другом — ни хрена не получила: она считает, что мне уже ничего не надо, и, возможно, права.
Скоро поедет за шапочкой с кисточкой и пальтишком средневековым — я запамятовала, как зовется этот наряд. У нее теперь будет звание. Это единственная женщина из писательского мира будет в таком звании. Рада за нее. Попрошу у нее напрокат шапочку и приду к Вам в гости».
Годом позже, вскоре после смерти Ахматовой, Фаина Георгиевна писала в дневнике: «Гений и смертный чувствуют одинаково в конце, перед неизбежным. Все время думаю о ней, вспоминаю. Скучно без нее… Будучи в Ленинграде, я часто ездила к ней за город, в ее будку, как звала она свою хибарку. Помнится, она сидела у окна, смотрела на деревья и, увидев меня, закричала: «Дайте, дайте мне Раневскую!..» Очевидно, было одиноко, тоскливо. Стала она катастрофически полнеть, перестала выходить на воздух. Я повела ее гулять, сели на скамью, молчали».
Вот еще запись в дневнике Раневской: «Умирая, Ахматова кричала «воздуха», «воздуха». Доктор сказала, что когда ей в вену ввели иглу с лекарством, она уже была мертвой…
Почему, когда погибает поэт, всегда чувство мучительной боли и своей вины? Нет моей Анны Андреевны — она все мне объяснила бы, как всегда…»
Бездна одиночества, трагедия неприкаянной души. Настанет день — и ей останутся одни лишь воспоминания. Она будет жить ими, там — в прошлом, с любимыми и близкими ей людьми останется ее сердце. Останется навсегда.
На склоне лет Фаина Георгиевна, подобно многим пожилым людям, страдала бессонницей. Сна не было всю ночь, он приходил лишь под утро, когда просыпался дом, хлопали двери, начинал шуметь лифт и дети, шумно топоча, сбегали с лестницы, торопясь в школу.
Раневская ждала сна и в то же время боялась его. Боялась сновидений.
Ей снилась Ахматова, худая, одетая в черное, свой любимый цвет. Фаина Георгиевна совершенно не удивилась и не испугалась. Ахматова спросила: «Что было после моей смерти?» Раневская подумала: «А стоит ли говорить ей о стихах, написанных Евтушенко «Памяти Ахматовой», — и решила не говорить.
Во сне ей не было страшно, страх наступал потом, когда она просыпалась. Сама Фаина Георгиевна называла это состояние «нестерпимой мукой». Ее душили боль и горечь утраты.
Следом за Анной Андреевной могла явиться Павла Леонтьевна… Фаина Георгиевна так сильно любила свою «крестную мать в искусстве», что всегда боялась пережить ее, но так уж получилось…
Но — довольно о печальном. Пока еще Фаина Раневская молода, полна сил и энергии, уже — знаменита, уже — узнаваема. О, как эта узнаваемость, оборотная сторона знаменитости, порой досаждала Раневской!
Фаина Георгиевна часто вспоминала об одном курьезном случае из своей ташкентской жизни. Не просто вспоминала, а сделала из него целую трагикомедию, спектакль, искрометное действо, которое с удовольствием разыгрывала впоследствии перед друзьями.
Как-то раз Фаина Георгиевна взялась продать кусок «обувной» кожи. Не для себя, а для кого-то из знакомых. Она не пошла на толкучку, а отправилась в комиссионный магазин, но там у нее кожу не приняли. На выходе из магазина Раневскую остановила какая-то женщина и предложила купить у нее кожу. Не успела сделка совершиться, как появился молодой узбек-милиционер, который отвел незадачливую «спекулянтку» в отделение милиции. Желая сделать вид, что она не арестованная, а просто знакомая милиционера, который, кстати говоря, почти не понимал по-русски, Раневская стала имитировать непринужденную приятельскую беседу, с веселым видом произнося тексты из прежних своих ролей, жестикулируя при этом. Толпа мальчишек (среди которых попадались и взрослые), сопровождавшая Раневскую, весело завопила: «Мулю повели! Смотрите, нашу Мулю ведут в милицию!» «Это ужасно! — восклицала в завершение преисполненная трагизма Фаина Георгиевна. — Народ меня ненавидит!»
Конечно же, она шутила — народ любил актрису Раневскую, и актриса Раневская это знала.
Теперь — о кино.
Оказавшись в Ташкенте, Раневская поддерживала связь с деятелями кинематографа, осевшими как в самом Ташкенте, так и почти рядом — в Алма-Ате.
В то время Сергей Эйзенштейн, выполняя заказ самого Сталина, снимал в Алма-Ате фильм «Иван Грозный», в котором хотел снять и Раневскую.