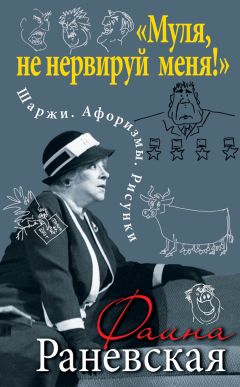Фаина Раневская - Я – выкидыш Станиславского
Недобрав тепла в детские годы (помните: «В семье была нелюбима. Мать обожала, отца боялась и не очень любила…»), Фаина Георгиевна всю жизнь пыталась восполнить эту недостачу. Она умела дружить по-настоящему, дружить искренне, трогательно и самоотверженно. Одной из ее подруг стала поэтесса Анна Ахматова…
Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.
А думал — забавницу,
Гадал — своенравницу,
Веселую птицу-певунью.
Покликаешь — морщится,
Обнимешь — топорщится,
А выйдет луна — затомится,
И смотрит, и стонет,
Как будто хоронит
Кого-то, и хочет топиться.
Твержу ей: крещенному,
С тобой по-мудреному
Возиться теперь мне не в пору;
Снеси-ка истому ты
В днепровские омуты,
На грешную Лысую гору.
Молчит — только ежится,
И все ей неможется,
Мне жалко ее, виноватую,
Как птицу подбитую,
Березу подрытую,
Над очастью, богом заклятую.
Николай Гумилев писал эти стихи, уже зная, что Анна Ахматова намерена расстаться с ним.
«Любила, восхищаюсь Ахматовой. Стихи ее смолоду вошли в состав моей крови», — писала в дневнике Фаина Георгиевна.
Раневская познакомилась с Ахматовой еще в юности, в те далекие времена, когда сама жила в Таганроге. Познакомилась по своему собственному почину — прочла ахматовские стихи, прониклась, впечатлилась и, оказавшись с семьей в Петербурге по дороге в Париж, решила познакомиться. Нашла квартиру Ахматовой и с замиранием сердца позвонила в звонок у дверей. «Открыла мне сама Анна Андреевна. Я, кажется, сказала: «Вы — мой поэт», — извинилась за нахальство. Она пригласила меня в комнаты. Дарила меня дружбой до конца своих дней».
«Вы пишете?» — поинтересовалась у странной посетительницы Ахматова. «Никогда не пыталась. Поэтов не может быть много», — ответила та.
По воспоминаниям Фаины Георгиевны Ахматова была женщиной больших страстей. Вечно кем-то увлекалась и вечно была в кого-то влюблена. Во время прогулки по Петрограду Анна Андреевна шла по улицам и, указывая на окна, говорила Раневской: «Вот там я была влюблена… А вон за тем окном я целовалась».
Анна Андреевна высоко ценила талант Раневской. Когда та однажды читала Ахматовой Бабеля, она услышала: «Гений он, а вы заодно». Такая похвала из уст Ахматовой была ценна втройне, ведь поэтесса отличалась прямотой и не умела (или не хотела) льстить никому.
«Она была удивительно доброй, — вспоминала об Ахматовой Фаина Георгиевна. — Такой она была с людьми скромными, неустроенными. К ней прорывались все, жаждующие ее видеть, слышать. Ее просили читать, она охотно исполняла просьбы. Но если в ней появлялась отчужденность, она замолкала. Лицо сказочно прекрасное делалось внезапно суровым. Я боялась, что среди слушателей окажется невежественный нахал. Про известного писателя, которого, наверное, хотела видеть в числе друзей, сказала: «Знаете, о моей смерти он расскажет в придаточном предложении, извинится, что куда-то опоздал, потому что трамвай задавил Ахматову, он не мог продраться через толпу, пошел другой стороной».
Анна Ахматова эвакуировалась из осажденного Ленинграда в Ташкент почти одновременно с Фаиной Раневской, в ноябре 1941 года.
Узбекистан… «Именно в Ташкенте я впервые узнала, что такое палящий жар, древесная тень и звук воды. А еще я узнала, что такое человеческая доброта», — напишет Анна Андреевна в мае 1944 года, вернувшись в Ленинград.
Хотя поначалу Ташкент и вся Средняя Азия, объединенная в представлении поэтессы емким словом «Восток», пугали ее, вызывали неосознанную тревогу:
Восток еще лежал непознанным пространством
И громыхал вдали как грозный вражий стан.
Но Восток умеет очаровывать, в этом ему не отказать. Чаруя, он подчиняет себе, вторгается в святая святых — в творчество поэтессы. Немного пожив в Ташкенте, Ахматова напишет совершенно иное:
Заснуть огорченной,
Проснуться влюбленной,
Увидеть, как красен мак.
Какая-то сила
Сегодня входила
В твое святилище, мрак!
Мангалочий дворик,
Как дым твое горек,
И как твой тополь высок…
Шахерезада
Идет из сада…
Так вот ты какой, Восток!
А позже будет и такое стихотворение:
Это рысьи глаза твои, Азия,
Что-то высмотрели во мне,
Что-то выдразнили подспудное
И рожденное тишиной,
И томительное, и трудное,
Как полдневный термезский зной.
Словно вся прапамять в сознание
Раскаленной лавой текла,
Словно я свои же рыдания
Из чужих ладоней пила.
Ташкентская поэтесса Светлана Сомова, много общавшаяся с Ахматовой, вспоминала: «Базар жил своей жизнью: чмокали верблюды, какой-то старик в чалме разрезал красный гранат, и с его желтых пальцев капал красный гранатовый сок. К Ахматовой прислонился рваный мальчонка с бритвой, хотел разрезать карман. Я схватила его за руку, прошептала: «Что ты? Это ленинградка, голодная». Он хмыкнул. А потом снова попался навстречу нам. Привязался, надо бы сдать его в милицию. Но он протянул Ахматовой румяный пирожок в грязной тряпке: «Ешь». И исчез. «Неужели съесть?» — спросила она. «Конечно, ведь он его для вас украл…» Кажется, никогда не забуду этот пирожок, бесценный дар базарного воришки».
Много позже Раневская писала: «В первый раз, придя к ней (к Ахматовой. — А.Ш.) в Ташкенте, я застала ее сидящей на кровати, — делилась воспоминаниями Фаина Георгиевна. — В комнате было холодно, на стене следы сырости. Была глубокая осень, от меня пахло вином.
— Я буду вашей madame Lambaille, пока мне не отрубили голову — истоплю вам печку.
— У меня нет дров, — сказала она весело.
— Я их украду.
— Если вам это удастся — будет мило.
Большой каменный саксаул не влезал в печку, я стала просить на улице незнакомых людей разрубить эту глыбу. Нашелся добрый человек, столяр или плотник, у него за спиной висел ящик с топором и молотком. Пришлось сознаться, что за работу мне нечем платить. «А мне и не надо денег, вам будет тепло, и я рад за вас буду, а деньги что? Деньги не все».
Я скинула пальто, положила в него краденое добро и вбежала к Анне Андреевне.
— А я сейчас встретила Платона Каратаева.
— Расскажите…
«Спасибо, спасибо», — повторяла она. Это относилось к нарубившему дрова. У нее оказалась картошка, мы ее сварили и съели. Никогда не встречала более кроткого, непритязательного человека, чем она. Как-то A.A. за что-то на меня рассердилась. Я, обидевшись, сказала ей что-то дерзкое. «О, фирма — два петуха!» — засмеялась она».