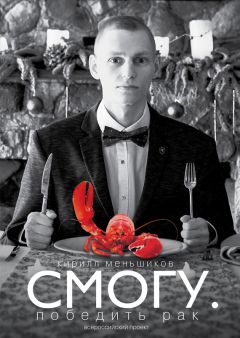Бруно Винцер - Солдат трех армий
Тут я расхохотался. Оба друга глядели на меня с недоумением.
— Вильгельм, ты сейчас упомянул о своем дедушке и прадедушке. Можешь ты установить, когда они родились?
— Конечно, могу. У нас все записано у раввинов и занесено в книгу. Каждая еврейская семья точно знает своих предков; но почему ты спрашиваешь?
— Тогда твои дела лучше моих. У меня только свидетельство о смерти моей бабушки с материнской стороны, но нет никакого официального документа о ее рождении и крещении. Может случиться, что из-за этого меня уволят из рейхсвера. Разве это не смешно?
— Не смеяться, а плакать надо, – вставил снова Клаус. – А кроме того, это вам еще одно подтверждение правильности моих слов. Нацисты сошли с ума. Если они и за вас взялись, то боюсь и представить себе, что они устроят с евреями. Прости, пожалуйста, но что такое унтер-офицер? Разве ты до сих пор не выполнял добросовестно свой служебный долг? Ну и что? То, что отец Вильгельма награжден Железным крестом первого класса, интересует этих парней так же мало, как и твои нынешние заслуги в рейхсвере. Эмигрировать, говорю я вам, эмигрировать! Вы что, уже позабыли, как здесь бушевали штурмовики?
Эти аргументы и сопоставления трудно было оставить без внимания, но Вильгельм Дейч пустил в ход свой последний козырь:
— Ты снова прав, но и я прав. Как обстояло дело со штурмовиками? Наихудшими были Рем и его люди, это ты должен признать. То, что их устранили, как раз и является доказательством, что будет установлен порядок и станет спокойно. Это тебя не убеждает?
Вильгельм Дейч не признавал никакого иного решения, кроме одного — оставаться в Германии, в Германии, которую он считал своим отечеством, несмотря на все выпады против евреев и несмотря на то, что его все больше избегали знакомые-неевреи.
Часть обратного пути я проехал вместе с Вильгельмом в трамвае. На Бисмаркплац мы сошли и еще поболтали о всяких незначительных вещах. Он жил почти в ста метрах от остановки, однако не пригласил меня зайти хотя бы на несколько минут, несмотря на то что я знал с прежних лет его родителей и сестер. Вероятно, он не хотел поставить меня в неловкое положение.
Наверно, я тогда и отклонил бы его приглашение под каким-нибудь предлогом — к сожалению, таким я уже стал. Может быть, и согласился бы, если бы был одет в штатское. Но в военной форме я не был способен проявить «гражданское мужество».
Во время рождественских каникул я снова повидался с Рут. Неожиданно я ее встретил у нашей входной двери.
— Бруно, мне нужно немедленно с тобой поговорить, Прошу тебя, пойдем прогуляемся!
— Почему ты не хочешь зайти? Мы ведь можем спокойно поговорить за чашкой кофе. Моя мать будет очень рада.
— Нет, пожалуй, не надо! Лучше на улице, пойдем, прошу тебя!
Все это было странно, обычно она всегда здоровалась с моими домашними. Что произошло? Мы бродили по улицам, а Рут все молчала. Она опустила голову и явно но знала, с чего начать. Около ресторана «Дикий вепрь» она вдруг остановилась и серьезно взглянула на меня.
— Я уезжаю.
— Как, сейчас, перед самым рождеством? Куда же?
— В Англию, в Лондон.
— Что тебе там нужно?
— Остаться там навсегда, то есть до тех пор, пока здесь не восстановится нормальное положение. Нас несколько человек, мы едем вместе. Не говори об этом никому! Глупости, извини меня, пожалуйста, я ведь понимаю, что ты меня не предашь. Но я в самом деле еду.
— Но это же чистое безумие!
Теперь Рут посмотрела на меня удивленно.
— Ты что, не читаешь больше газет или у вас испортилось радио?
— Как так? Случилось что-либо тревожное?
— Скажи, ты действительно ничего не слышал о новом законе относительно «коварных происков врага»? Теперь достаточно косо взглянуть на члена НСДАП или обронить неподходящее слово — и тебе конец. Уничтожены последние остатки личной свободы. К нашему кружку и без того уже присматриваются, потому что мы не вступили в нацистскую группу. Только вчера нас опять шельмовали. С нас достаточно, мы не дадим упрятать себя в тюрьму. Мы можем и в Англии учиться. Это то, что я хотела тебе сказать.
Я старался как мог отговорить Рут от ее решения. Тщетно. Все произошло столь неожиданно для меня, и я упрекал за это Рут.
— Попытайся меня понять, Бруно! Я больше не могу; жить в такой Германии. Мне больно, что я неожиданно тебя огорчила и причиняю тебе страдания. Прости меня, по мне хотелось по крайней мере самой тебе все сказать и попрощаться с тобой. Может быть, скоро увидимся. Собственно, я не должна была вообще об этом говорить: мы условились, что никто ни о чем не должен знать.
— Что это за люди, с которыми ты заключила такие условия? Что такое они натворили, если им нужно тайно покидать страну?
— Ты нас не понимаешь, Бруно. Это действительно хорошие и честные люди. Когда-нибудь ты нас, безусловно, поймешь. Безусловно.
Я расстался с Рут, не сказав ей на прощание доброго слова.
Вермахт
Три дня «на губе»
16 марта 1935 года было объявлено о введении всеобщей воинской и трудовой повинности. Теперь рейхсвер стал именоваться вермахтом. Таким образом, гитлеровская Германия, которая уже 14 октября 1933 года вышла из Лиги Наций, открыто нарушила постановление Версальского мирного договора об ограничении вооружений. Теперь отпали все виды маскировки, с помощью которой скрывался факт, что уже в стотысячной армии были заложены предпосылки для быстрого строительства будущей миллионной армии.
Державы-победительницы 1918 года не предприняли никаких эффективных ответных мер. Через три месяца Великобритания заключила с Гитлером военно-морское соглашение, которое разрешало Германии дальнейшее вооружение на море в пределах установленного соотношения сил. Ничего не случилось и тогда, когда 7 марта 1936 года соединения вермахта внезапно вступили в Рейнскую демилитаризованную зону.
Я видел в кинохронике, как украшенные цветами полки маршировали через рейнские мосты и по улицам Кельна, гордился нашим вермахтом и завидовал товарищам, непосредственно участвовавшим в этом.
После введения всеобщей воинской повинности все большее число городов было превращено в военные гарнизоны. Это означало, что многие из нас будут переведены в другую часть и большинство повышено в чине.
Ту подготовку, которую мы получили в рейхсвере, мы теперь передавали военнообязанным. Нас муштровали, чтобы приучить к беспрекословному повиновению. Мы все это переносили, потому что были добровольцами и безоговорочно соглашались на такое обучение. С военнообязанными дело обстояло иначе, но и с ними обращались так же. К тому же некоторые из нас не были способны освоиться с быстрым повышением по службе; получив неожиданно большую власть, пусть даже в качестве маленького командира отделения, они потеряли голову и допускали грубые ошибки в выборе воспитательных мер я методов обучения. Обычным явлением стал мелочные придирки и унизительное обращение, какого не было и в рейхсвере. Все это угнетающе действовало на многих военнообязанных. Такая мучительная муштра не имела ничего общего с необходимым воспитанием в целях закалки. Между тем многие офицеры молчаливо терпели, а некоторые даже поощряли это, что мне при моих тогдашних взглядах и иллюзиях казалось странным и непостижимым. Ведь в моем государстве военная служба свободного человека по древнегерманскому образцу превозносилась как «благороднейшее право» гражданина, а «непригодность к военной службе» считалась величайшим позором.