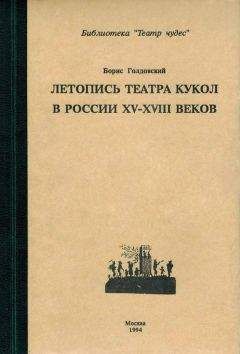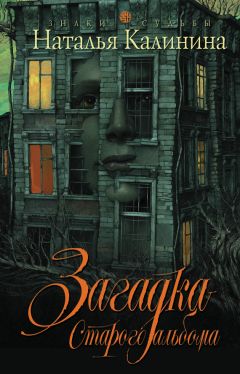Анастасия Баранович-Поливанова - Оглядываясь назад
В 53-м году у меня родилась дочка, вскоре тяжело заболела мама, и на последних курсах я появлялась в университете только на занятиях языка и спецкурсах, естественно, что многое при этом могло ускользнуть от моего внимания.
Какое-то облегчение в первый момент по окончании войны все же почувствовали. Ведь это так естественно: кто-то живым вернулся домой, кого-то дождалась семья, хоть и не для всех был тот салют, не для всех та победа. Оставались еще кой-какие отдушины, которые захлопнулись не сразу, происходило это постепенно, а потом уже разразились кампания за кампанией. В 46-м году выпустили маленькую книжечку Пастернака «Земной простор». Зная заранее, что она должна появиться, я каждый день забегала в книжный магазин на Манежной площади и, в конце концов, накупила сразу несколько экземпляров для нас и для всех друзей. Если не считать последних лет, когда можно достать любую книгу (правда из-за непомерных цен сейчас они доступны немногим), это был единственный случай в моей жизни, когда свободно, не с рук, не в букинистическом, я смогла купить сборник Пастернака. Некоторые стихи из него он уже читал, и я их любила.
Один такой вечер ленинградских и московских поэтов происходил в 46-м году в коммунистической аудитории нового здания старого университета. Среди выступавших был тогда еще молодой, немного строивший из себя Иванушку-дурачка Михалков с баснями, за которые ему порой попадало, так что быстро отказавшись от роли либерала, он исправился на всю оставшуюся жизнь. Тепло встречали Бергольц с ее «блокадной ласточкой», и даже Дудина: «А я люблю хрустящий наст, когда он лыжей взрежется, когда всего тебя обдаст невыдуманной свежестью», и закончил «…и если есть на свете Бог, то это ты, поэзия». Но все пришли, разумеется, ради Ахматовой и Пастернака. «Кого же еще здесь слушать», — поделился с нами сидевший рядом молодой человек, выразив таким образом мнение всех присутствующих. И действительно, их принимали восторженно. Ахматова держалась строго и сдержанно и прочла немного. Пастернак начал с заявлений, что сейчас он учится писать стихи у Симонова и Суркова, а потом, как всегда, заражающий и заряжающий слушателей своей покоряющей улыбкой и неповторимым голосом и сам загорающийся от ответного тепла и любви зала, много читал из «Земного простора», иногда сбивался, и ему тут же подсказывали.
В 48-м году состоялся вечер «За прочный мир, за народную демократию» в Политехническом музее. Попасть на него было почти невозможно. Нас с мамой, как и еще многих своих друзей, провел и попросил усадить Пастернак. Когда он, запоздав из-за этого, пробирался на свое место, зал взорвался бурей аплодисментов, от которых позеленел Сурков, уже начавший вступительное слово, где он сыпал такими перлами остроумия и эрудиции: «Вся гитлеровская свора, включая самого Гитлера, не только начиналась на одну букву, но и пахла одинаково». Но это было уже последнее публичное выступление Пастернака, если не считать чтений переводов Шекспира и «Фауста» Гете.
Оставалась консерватория, где уже блистал молодой Рихтер. Он был тогда совсем другим. Я имею в виду не его игру, которая с каждым годом, с каждым концертом становилась совершеннее и совершеннее, хотя казалось и продолжало казаться, что это уже невозможно, что и так превзойдены все вершины. Я говорю о его манере держаться и отношении к публике. Он не выходил, а вылетал сияющий на эстраду, подобно солнечному лучу, озаряя улыбкой все вокруг и охотно и много бисировал. Бесподобно играли Г.Нейга- уз (я и тогда, и теперь считаю, что лучшего шопениста не слышала), М.Юдина; это годы небывалого расцвета русского пианистического искусства. И не только пианистического. Тогда же покорял всех замечательный дирижер К.Зандерлинг. которого травил, душил и выжил-таки не только из Ленинграда, но и из России Мравинский. Билеты на концерты продавались совершенно свободно за несколько дней и даже накануне. И что поразительно, в это трудно поверить: на выступлениях всех этих выдающихся музыкантов, за редкими исключениями. Большой зал никогда не был полон. Мы с друзьями покупали самые дешевые билеты и почти всегда сидели в партере на свободных местах, не только в Большом, но и в Малом.
Однажды в Малом зале на исполнении очередного квартета Шостаковича, сидевшего перед нами Дмитрия Дмитриевича согнала какая-то женщина, заявив, что это ее место, хотя в том же ряду было еще несколько свободных мест. Это было странно еще и потому, что завсегдатаи консерватории хорошо знали Шостаковича в лицо. Покраснев до кончиков ушей, он пересел на другой стул. Но что почувствовала эта чудачка, когда после исполнения квартета, автора потребовали на сцену.
Но, возвращаясь к Зандерлингу, на одном из его концертов несколькими годами позже, при неполном зале, я подумала, вот когда он уедет и станет появляться как гастролер (к тому времени уже нередко приезжали музыканты из других стран), на него нельзя будет попасть. Что и случилось впоследствии.
В эти же годы в драматических театрах царил застой. Кроме советских шедевров и Чехова в МХАТе и Островского в Малом, практически ничего не ставили, иногда только делая исключения для испанцев, хотя еще были живы такие замечательные актеры, как Бабанова, Мансурова. Андровская, Кторов и многие другие. Как-то один театровед, часто выступающий по телевизору с рассказами о театре и кино, сказал, что в MX AT ходила интеллигенция. Это неверно. Интеллигенция не ходила в МХАТ, где Тарасова с теми же истерическими интонациями, с которыми она играла Каренину, произносила, обращаясь к мужу, крупному начальнику: «Купи мне туфли под цвет нашей машины ЗИС-110» в суровской «Зеленой улице». Кажется, в конце пьесы героиня перековывалась и становилась к станку. Эта и подобные ей пьесы вроде «Платона Кречета», «Глубокой разведки», «Победителей», где ту же Тарасову, военного врача, поклонник-генерал в припадке нежных чувств называл: «Эх, Лиза, Лиза, лисапед», — ставились по всем правилам системы Станиславского. В них было занято прославленное второе поколение мхатовцев, на декорации и костюмы денег не жалели, так что в результате выпускались не спектакли. а просто конфетки. Интеллигенция, не считая консерватории, ходила к Образцову, где лучшая постановка «Король-Олень» даже была снята из-за слишком откровенных выпадов против тирана-короля, на концерты Обуховой и в балет на Уланову и Семенову.
Лето 47-го года я провела в пионерском лагере под Подольском. Лагерь был расположен на месте старой усадьбы, от нее, впрочем, остался только изрядно облупленный небольшой дом и несколько построек более позднего происхождения. Рядом — обезглавленная и почти разрушенная церковь, низ которой использовался под сеновал. Длинные столы под навесом служили нам столовой. В те годы, судя по моему опыту, в лагере жилось совершенно привольно и совсем не походило на «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Начать с того, что входа или какого-либо забора вообще не существовало. Никакой униформы, кроме торжественных случаев. Обязательными были только утренняя и вечерняя линейки. До обеда мы, старшие, торчали на волейбольной площадке, а те, кто не хотел или не умел играть, разбредались но округе безо всякого надзора или придумывали себе еще какие-нибудь занятия или развлечения. После обеда нас, правда, укладывали спать, а по вечерам мы играли в ручеек, почту, иногда опять в волейбол или танцевали под баян всякие польки, венгерки и краковяки, благо большинство ребят, вернее девочек, занимались в балетном кружке Дома пионеров, на базе которого и был организован лагерь. Иногда в жаркие дни мы с кем-нибудь из вожатых отправлялись на речку, Мочу, но идти надо было далеко и полем, поэтому донести прохладу до лагеря после купанья не удавалось. Но все равно мы были довольны, в дальнейшем мы стали удирать во время мертвого часа на пруд, совсем поблизости, и там уже могли насладиться вволю. Кормили невкусно и скудно, но мы с жадностью все подчищали, оставляя в первозданной чистоте не слишком аппетитные алюминиевые миски. Время еще было голодным. Чтобы хоть немного нас подкормить, родители снабдили нас небольшим количеством денег, на которые мы покупали вечером по кружке молока в соседней деревне. Прикармливались также морковью и горохом, — благо колхозное поле было поблизости.