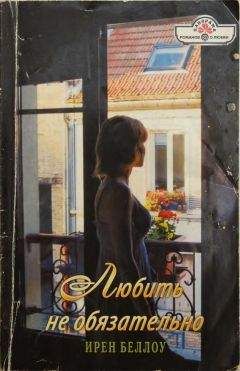Маргарет Сэлинджер - Над пропастью во сне: Мой отец Дж. Д. Сэлинджер
«Во-первых, лидеры сект — люди с авторитарной, харизматической личностью; они источают — у некоторых, правда, это получается сдержанно и ненавязчиво — непререкаемую, незыблемую уверенность в себе и своих религиозных взглядах. Они — авторитарные символы, с которыми обращенные отождествляют себя; их взгляды, их изречения представляются непогрешимыми.
Далее, каждый из лидеров секты заявляет, что лишь те религиозные взгляды, которые исповедует он, являются истинными; только примкнув к ним, можно решить как в идеальном плане, так и практически, проблемы, встающие перед миром и перед обращенными. Доктринальный характер подобных установлений дает обращенным ясное сознание смысла, верного направления, цели — как в умственной деятельности, так и во всей жизни, рассеивая тем самым смятение, неуверенность в себе, постоянные сомнения, характеризовавшие многих из них до обращения.
В-третьих, секты требуют исполнения специфических, ко многому обязывающих, часто аскетических и пуританских правил, которые регулируют все основные стороны повседневной жизни обращенных (в частности, соблюдение религиозных ритуалов, диета, внешний вид, нормы половой жизни, запрет на наркотики и т. д.). Сектанты воспринимают религиозные взгляды как указание истинного пути, объяснение смысла жизни и их роли в ней и с радостью принимают жесткие правила как практическое руководство в личностной, межличностной и социальной сфере. Все это предоставляет им твердую опору в жизни, являясь альтернативой безликой культуре, в которой они не могут найти своего места».
Чтобы понять влечение отца к подобным религиозным системам, можно пойти и другим путем — покинуть пределы индивидуальной психологии и бросить вместо того взгляд на нашу общую историю. Уверена: именно то, что отец, еврей или наполовину еврей по происхождению, вырос в Америке, сделало его, как и многих, ему подобных, беззащитным перед так называемыми «новыми религиями» — термин, наверное, не столь эмоционально окрашенный, как культы, или секты. Раввин Файн[123] красноречиво говорит о евреях и об утрате пути современным обществом:
«Молодые евреи…спрашивают: что это значит, быть евреем, подниматься из пепла всеобщего истребления? Что означает принадлежать к 3,5 процента населения в нееврейской культуре? Такие размышления глубоко затрагивают личность евреев. Они заставляют людей искать, задаваться вопросами. А когда люди ищут и задаются вопросами, в глубине души они жаждут найти решение. И Новые религиозные движения, конечно же, им это решение предоставляют».
Системы верований, которые раввин Файн перечисляет как особенно привлекательные для евреев, — как раз те самые, к которым всегда влекло моего отца и его героев. Файн считает, что восточные религии, особенно движения гуру «из-за их универсального охвата — мы принимаем и ведем к свету любого —…мгновенно разрешают множество чисто еврейских проблем…Ты можешь более или менее (чаще менее) считать себя иудаистом, но в новую веру принимаются все. Тебе уже не нужно биться над историческими проблемами или над проблемами меньшинства, ибо решение готово: «мы — одно»…»[124].
Может быть, взгляды раввина не касаются всех, или даже многих евреев, но, снова обращаясь к творчеству отца, я нахожу аргументам Фаина множество подтверждений. Если в ранних произведениях отца утратившие путь молодые люди время от времени ищут пристанища в чистоте ребенка, то эта стратегия меняется, превращается в некое подобие христианизированного восточного мистицизма в рассказе о де Домье-Смите, который находит выход из своего Голубого периода, прозревая чистоту в море грязи, где он утопает. Сначала сестра Ирма спасает его, а потом, в мистическом видении, все нечистоты этого мира — включая его самого, его кошмарных учеников и приборы для промывания кишечника — превращаются в дважды благословенные цветы. Де Домье-Смит заново воссоединяется с миром, вновь принимает своих жутких учеников и оставляет нас наедине со следующим откровением: «tout le monde est une nonne» — весь мир — монахиня, святая сестра. Он находит прибежище в осознании того, что мы — одно.
В последних двух повестях отца ставится та же проблема, дается то же решение. Во «Фрэнни и Зуи» Фрэнни сломлена, угнетена, потеряла ориентир из-за «пустозвонства» жизни в колледже. Она вновь обретает способность «функционировать» через откровение, гласящее, что все люди — Христос. — Ты не знала этой тайны?» — спрашивает у нее Зуи. Каждый, любой из этих «пустозвонов», любая клизма или клистирная трубка, «даже жуткий профессор Таппер…это сам Христос». Книга заканчивается так: «Несколько минут, перед тем как заснуть глубоким, без сновидений, сном, она просто лежала очень тихо, глядя на потолок и улыбаясь».
Последняя опубликованная книга отца, «Выше стропила, плотники» и «Симор: Введение» заканчивается тем, что Бадди осознает: Симор был прав, и «ужасная триста седьмая аудитория», куда придут на занятия девушки, вернувшись со своих повитых плющом уикэндов, на самом деле Святая Земля, и даже «Грозная Мисс Цабель» ему такая же сестра, как Бу-Бу или Фрэнни.
В каждой книге напряжение снимается открытием того, что «мы — одно»: те же слова приводил и раввин Файн. Страдающий герой уже не должен биться над проблемами истории или над проблемами меньшинства, как героиня «Затянувшегося дебюта Лоис Тэггет», или Лайонел из рассказа «В лодке», или Холден с его «полукатолическим» происхождением, или мой отец, которого ранило то, как «принято было говорить», по словам моей тети. Мы — одно.
Но выдуманное решение рассыпается в прах при первом соприкосновении с реальностью. Одно дело слиться с человечеством, даже с одним человеком, пережив общий экстаз, общее ликование, и совсем другое — прожить с ним или с ней следующее утро, и потом жить день за днем, неделя за неделей. Пьер Абеляр уходит из зеленеющего монастырского сада, уводя за собой чистую молодую девушку, едва не принявшую постриг, и сразу за воротами обнаруживает, что она превратилась в мешок со слизью, грязью и испражнениями.
Из разговора, переданного одной молодой женщиной, видно, как отец попался в сети своих собственных головоломок. Она ему рассказывает о концерте народной песни, на котором побывала:
«На несколько минут возникло такое чувство, будто все в этой комнате — добрые люди. Мы все вдруг стали друзьями. Я оглядывалась вокруг и всех любила. Было легко и приятно чувствовать так». — «Но песня кончилась, полагаю? — сказал Джерри с такой горькой язвительностью в голосе, что я удивилась. — Вот в чем подвох. Несколько куплетов еще можно продержаться, а потом каждый начинает вспоминать, что сосед его бесит до чертиков»[125].