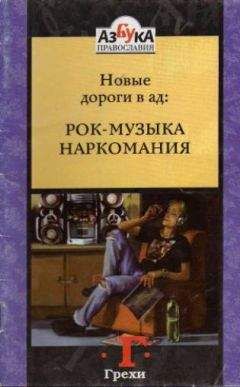Шокирующая музыка - Лоуренс Кристофер
В это утро Росс пригласил меня в свой рабочий кабинет. Он – технофоб, тем не менее он уступил современности. На одном из столов стоят факс, ксерокс, сканер и компьютер для работы с электронной почтой и регулярной проверки его персонального сайта. Росс управляется с этими функциями с осторожностью и успехом начинающего водителя. (Композиторы старшего поколения с более математическим складом ума, несомненно, с удовольствием пользовались бы кибернетическим миром. Я убежден, что Моцарт сделал бы состояние на написании программ.)
И всё же это всего лишь мигающие огоньки в пещере мистика или лесной норе. Несмотря на тропическую рубашку, Росс слегка смахивает на персонажа «Ветра в ивах». Я так и вижу его на заднем сиденье лодки дядюшки Рэта, застенчиво потягивающего очередной лимон-эйд или, что более вероятно, рислинг. Худощавый, с растрепанными волосами и бородой, с мягкой искренностью в глазах, он выглядит одновременно моложавым и добродушным.
Эдвардсу комфортно в его среде обитания, потому что она помогает ему свести его существование к одной цели. В конце концов, творческие люди не просто прокручивают идеи в голове, они заставляют их еще и побегать по потолку. В этой конкретной комнате родилось уже две симфонии, и третья на подходе. Находит ли музыка отклик в глубине этих стен? Помню, как много лет назад я был в рабочей комнате дома Равеля под Парижем и тихонько прижимал ухо к наличнику, надеясь услышать слабую пульсацию «Паваны на смерть инфанты». Давно почившего Равеля не было рядом, чтобы меня осудить.
Росс сидит за роялем перед своей гигантской пробковой доской с наслоениями нотных записей. Взглянув на лист в левом верхнем углу, он начинает играть начало своей симфонии, одновременно изображая хор тибетских горловых певцов. Я могу поклясться, что вижу звезды, и ощупываю свою голову на предмет сотрясения. Сама музыка, конечно, сразила меня наповал.
Ты ощущаешь смирение, когда композитор исполняет серенаду на музыку, которую еще никто никогда не слышал. Уверен, в этот момент в мире не происходит ничего более важного. В произведении есть целостность, которая заполняет воздух между нами и обеспечивает существование музыки независимо от количества ее будущих слушателей. Она есть. Остается надеяться, что кому-то посчастливится ее найти.
На что стоит надеяться в этой жизни? Если композиторы и являются какими-то проводниками, так это в том, как найти свою песню и научиться ее петь. Поиск может быть мучительным. Для немногих счастливчиков это знание так же очевидно, как ушибленный палец ноги.
Росс Эдвардс с детства знал о музыке в своей голове. Когда ему было тринадцать, он попал на оркестровый концерт и впервые услышал, как исполняется музыка на таком сложном уровне. Он ушиб палец на ноге. Два пальца, возможно, вывихнул ступню, сразу поняв, что есть только одна вещь, которую он хочет делать, но ему придется много работать, чтобы этому научиться.
Средняя школа оказалась бесполезна. Эдвардс описывает свое раннее образование в лучшем случае как «неудобство», в худшем – как «концлагерь». Будучи единственным ребенком, он, естественно, был объектом самых высоких ожиданий своих родителей, и считалось, что юный Росс может стать архитектором. Поскольку архитектуру называли «застывшей музыкой», семья Эдвардсов была недалека от истины, но начинающий композитор с некоторым талантом к рисованию уже выбрал нотные горизонтали вместо балюстрад.
В конце пятидесятых годов в Австралии такой выбор профессии был неординарным. Сейчас быть композитором всё еще считается экзотикой, а во времена Мензиса такие богемные наклонности были в диковинку. Эдвардс учился в консерваториях и университетах Сиднея и Аделаиды, получил степень бакалавра музыки в 1968 году и стал главным героем целого ряда музыкальных городских мифов, которые я с удовольствием включил бы сюда. Некоторые из них мне поведал коллега-композитор Питер Скалторп в документальном радиофильме, который я записал об Эдвардсе в 1984 году. По сути, это вариации на тему невинной рассеянности за границей. Росс клянется, что всё это неправда и что моя радиопередача вызвала несколько запоздалых объяснений с его родственниками. Теперь я ему верю, потому что аура приветливого лесного существа не соответствует такой спокойной решимости.
К концу шестидесятых Эдвардс жил в Лондоне, а затем в уединенном фермерском доме в Йоркшире, совершенствуя свое ремесло. Нам говорят, что легкость исполнения приходит с развитием техники, однако Эдвардс столкнулся с обратной ситуацией. Оставшись наедине с листами рукописи, он начал сомневаться в том, что вся его работа до этого момента была направлена в нужное русло. Он загнал себя в ловушку не той песни.
Осознание того, что человек шел по жизни не в том направлении – одно из самых страшных, какие только могут быть. Многие из нас избегают его, потому что последствия могут быть слишком ужасными: что случится с репутацией, самооценкой или ипотекой? Еще совсем недавно такое решение считалось капризным и преждевременным, если человек был молод; для тех же, кто был старше, в этом видели симптом «кризиса среднего возраста» (см. Шабрие в «Радости»). Вернуться назад, вы идете не туда? Чепуха! Выйдя на старт, мы не должны были отклоняться от границ дорожки. Всё, что связано с самооценкой, или, что еще хуже, с самообновлением, было отступлением. Отступление – это для слабаков.
В наши дни приходит новое освежающее осознание того, что жизнь может состоять из нескольких профессий. В случае творческого человека «карьера» не является предметом дискуссии; это нечто более фундаментальное, более интимное: суждение о самой сути его существа, о смысле его существования. Когда тень опускается на все прежние представления о себе, результаты могут быть катарсическими. Так было и с Эдвардсом, который признается, что в то время ему было «физически плохо от одной мысли о той музыке, которую он писал: просто потоки музыки, повествующей о том, что мир ужасен, и вот я в нем. Это был совершенно невротический материал. Я боролся против системы, в которую не верил. Я пытался заставить работать то, что не могло работать. Я просто понял, что нужно перестать это делать».
С 1974 по 1976 год Росс практически ничего не писал. Теперь, когда ему было за тридцать и его произведения уже исполнялись по всей Австралии и за рубежом, это была потенциально опасная ситуация, когда нужно было бы начинать работать много и быстро. Эдвардс решил использовать более интуитивный подход. «На этом этапе, – говорит он, – мои инстинкты подсказывали мне прекратить попытки».
Отпустите это, и оно вернется
Спокойствие, которое должно предшествовать обновлению, знакомо созерцательным натурам. Двухлетняя тишина – это долгий перерыв в начале карьеры. Но молчание – важный элемент работы Эдвардса, и постепенно он начал воспринимать эту творческую тишину как необходимость.
«Решение для меня заключалось в том, чтобы научиться во многом отказываться от контроля», – говорит он. И, создавая это пространство вокруг себя, он начал получать свежие послания, но не из «ужасного» мира, от которого он чувствовал себя всё более отдаляющимся, а из мира природы: звуки птиц и насекомых, которые были местными менестрелями на Перл-Бич на побережье Нового Южного Уэльса, где композитор жил со своей молодой семьей в конце семидесятых. Его настоящая песня окружала его.
В результате этой спячки возникли два разных стиля. Один, его «священный» стиль, уводит нас глубоко в тишину души, в пышную безмолвную тьму с редкими звуками. Оказаться в этой тишине в обществе других людей кажется ересью, что, возможно, объясняет, почему Россу некомфортно в концертном зале, где люди так и норовят закашляться. Это всё равно, что взять нежные трепетания и шебуршания его музыки и прибить их к стене. Чтобы не везти автобусы слушателей в ближайший национальный парк и не исполнять им серенады через невидимую звуковую систему, Росс иногда просит приглушить свет в зале.