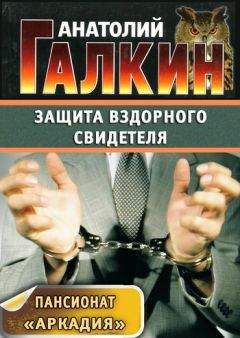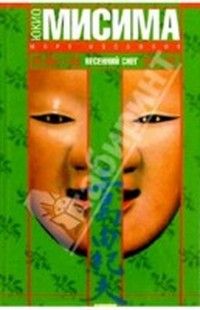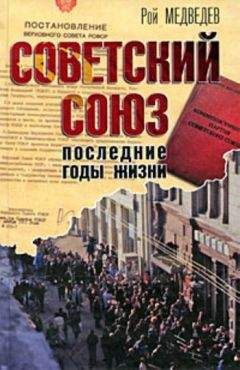Говард Фаст - Как я был красным
В 1950 году движение в защиту мира во главе с коммунистами - движение очень скромное в сравнении с мощной волной, положившей позднее конец войне во Вьетнаме, - постоянно обвиняли в том, что это инструмент политики Советского Союза. В каком-то смысле так оно и было. Но было это движение также и инструментом - если уж угодно употреблять это слово - всех людей доброй воли. В атомный век мир - единственная надежда человечества на спасение, а когда началась война в Корее, эта надежда пошатнулась. Власть, бросившая меня вместе с другими в тюрьму за политические убеждения, - это власть, лишенная здравого смысла. Ибо, оказавшись за решеткой, я без всяких усилий с моей стороны сделался знаменем борьбы за мир.
Не могу сказать, что в тюрьме я испытывал такие уж лишения. Если, конечно, не считать лишения свободы, права свободного человека передвигаться так и туда, как и куда ему вздумается. Мы остро критиковали Советский Союз за отказ выпускать своих граждан за границу, но ведь и в Америке в мои времена ни одному левому не выдавали паспорта. Мой отобрали немедленно по возвращении из Парижа и отказывали в получении на протяжении последующих десяти лет. Помню, в Канаде намечался большой концерт Поля Робсона. Граница открыта, паспорт не нужен, и все же Поля, применив какое-то древнее установление, в Канаду не пустили. Позиция Вашинтона формулировалась так: если нас выпустить за границу, вокруг нас немедленно соберутся все антиамериканские силы. Но они и так ориентировались на нас.
На тюрьму я оглядываюсь, разумеется, без радости и без ощущения, что понес заслуженное наказание. Рассказать о ней пытался правду, отдав должное государственной пенитенциарной системе в ее отдельных положительных проявлениях. А вот власть, что бросила меня туда, я вспоминаю с отвращением и горечью. Сажать писателей за решетку - дело гнусное, это советская манера, пятнающая саму идею социализма. В Китае и до сих пор так заведено. Не говорю уж, естественно, о грязных диктаторских режимах, что распространились по "третьему миру", - многие из них, кстати, американские "клиенты".
Тем не менее, не окажись я в тюрьме - никогда бы мне не написать "Спартака". Над этой книгой я впервые стал задумываться в Милл Пойнт, где полнее и глубже, чем раньше, осознал всю трагедию существования обездоленных. Но на первых порах после освобождения я наслаждался обществом жены и детей в нашем небольшом доме на 94-й улице. На полу крохотной, в викторианском стиле, гостиной Бетт постелила темный ковер с вытканными на нем алыми розами, тут же стояла древняя, еще времен моего детства мебель - набитая конским волосом кушетка, стулья с изогнутыми спинками по моде 30-х, когда ничто не стоило больше 25 центов; уют, все к месту. Я расхаживал по дому с каким-то обновленным чувством, уговаривая себя, что всегда только этого и хотел - хорошо писать и воспитывать детей - словом, вести жизнь нормального человека.
Однако же существовала еще в моей жизни и коммунистическая партия США, и события, случившиеся сразу по моем освобождении из тюрьмы, должны были бы открыть ей глаза на собственную глупость и паранойю.
Я смолоду любил театр, и вышло так, что жизнь у меня раскололась надвое: как романист я добился и кое-какой известности, и кое-какого благополучия; как драматург - витал в облаках и получал за свои пьесы копейки, за исключением, правда, "Гражданина Тома Пейна", который в течение семи недель с успехом шел в Центре Кеннеди много лет спустя после того, как я вышел из компартии.
Незадолго до тюрьмы я написал пьесу под названием "Молот". В ней на фоне войны разворачивается драма еврейской семьи - отца, который непосильным трудом едва зарабатывает на пропитание, и трех его сыновей. Один возвращается с фронта с тяжелым ранением. Другой наживается на войне. Третий, младший, стремится попасть в действующую армию. Пьеса слабоватая, слишком уж в ней выпирают тенденция и мораль. Дело, однако же, в том, что примерно за год до ее написания мы с Хербом Тэнком, некогда моряком торгового флота, а ныне писателем, Барни Рубином, ветераном испанской и Второй мировой войн, самым, наверное, известным комментатором "Старз энд Страйпс", актером Фрэнком Сильверой и драматургами Арнольдом Мэнофом и Элис Чилдрес основали студию "Новая драматургия". Туда я и передал свою пьесу.
Барни и Херб задумали сыграть премьеру в день моего освобождения. Но поскольку срок мне за примерное поведение немного скостили, вышел я раньше, чем предполагалось, и поспел на прогон. "Новая драматургия" - внебродвейский театр левой ориентации, финансово его в меру своих скудных возможностей поддерживала культурная секция компартии, так что Комитет по антиамериканской деятельности рассматривал его как часть общего коммунстического фронта. Помещался театр в здании чехословацкого культурного центра на 72-й улице.
В день моего возвращения позвонил Барни, радостно поздравил с освобождением и сказал, что сегодняшний прогон посвящается нам с Бетт. Начинаем в половине девятого, добавил он. Пока не сыграют премьеру, автор никогда не знает, насколько дурна его пьеса, а тогда у меня был дополнительный повод для волнения: репетировали в мое отсутствие. Впрочем, что сделано, то сделано: глупо размахивать топором, когда у ног уже лежат чурбаки. Между собой мы с Бетт решили, что даже если что-то не понравится, молчать: ведь люди хотели как лучше.
На прогон пришли человек 10 - 12 из культурной секции. Представление началось. На сцене появился отец, Майкл Левин, невысокий мужчина с бледным изможденным лицом и рыжими волосами. Затем его жена - тоже маленькая, измученная женщина с прозрачной кожей. И наконец, старший сын, его играл... Джеймс Эрл Джонс - верзила-негр ростом в 6 футов 2 дюйма, весом 200 фунтов и басовитым голосом, от которого сотрясались стены театрика.
- О Господи, - простонал я.
- Спокойно, наверняка это просто замена, - прошептала Бетт.
- Да какая там замена! Боги за что-то явно прогневались на меня. И музы тоже. Мне конец.
Время тянулось мучительно медленно. Прошу понять меня правильно: Джимми Джонс, как все мы его называли, очень славный, скромный и глубоко преданный театру человек. Но ведь он же черный, и он вдвое длиннее всех остальных участников спектакля.
Наконец, первый акт кончился, занавес пополз вниз, и я повернулся к Барни:
- Я так понимаю, что Джимми вышел на замену?
Барни покачал головой и кивнул в сторону секретаря культурной секции Лайонеля Бермана, стоявшего рядом.
- Как это понять - "на замену"? - осведомился наш главный идеолог.
- Ну, скажем, основной исполнитель заболел или еще что случилось - и кто-то на текущем представлении его заменяет.