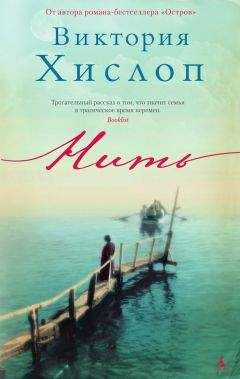Марианна Шаскольская - Фредерик Жолио-Кюри
— Нет. Я всегда стремился предупредить эту войну, побуждая французское правительство вовремя принять меры, как внутренние, так и внешние, которые помогли бы избежать войны.
— Не подлежит сомнению, — настаивал полковник Бемельбург, — что вы явный противник совместной деятельности правительств двух стран.
— Нисколько, — возразил Ланжевен. — Я был и остался поборником совместной деятельности народов двух стран.
— Мы считаем вас ответственным, — заявил Бемель-бург, — за нынешнюю войну и нынешнее кровопролитие, так же как французские энциклопедисты ответственны за Французскую революцию и за якобинский террор 1793 года. Для нас вы так же виновны, как и Дидро и Даламбер!
Седой француз поклонился.
— Я никогда не надеялся быть удостоенным такой высокой чести, — ответил он.
Весть об аресте профессора Ланжевена оказалась той искрой-молнией, которая возвещает грозу. Всколыхнулись средние и высшие школы Парижа, студенчество, профессора. Волнения охватили и заводы.
Компартия открыла кампанию за освобождение Ланжевена. Воззвания, лозунги, листовки требовали: «Свободу Ланжевену!» Эти же слова писали мелом или краской на стенах домов и на тротуарах. В тюрьму Санте прибывали груды писем. Писали все: профессора и студенты, рабочие и ремесленники. Письма, конечно, не попадали к адресату. Но их груды росли и росли, а весомость подписей не могла не ощущаться германскими властями.
«Пишите Ланжевену» — это был один из лозунгов Французской компартии.
В день, когда должна была состояться очередная лекция Ланжевена, толпы студентов собрались перед зданием Коллеж де Франс. Ворота оказались запертыми. Директор Коллеж де Франс, историк Фараль, один из немногих профессоров, стоявших за «мирное сотрудничество», пытался уговорить студентов разойтись.
— Не торопитесь, — поучал он их. — Справедливость требует терпеливого изучения, долгого расследования. Профессор Ланжевен, к сожалению, известен своими коммунистическими симпатиями. Занятия политикой всегда бросали тень на его научные заслуги. Не впадайте в крайности. Сотрудничество с немецкими властями неизбежно.
Студенты не дали ему договорить. Несмотря на полицию, срочно вызванную дирекцией, часть студентов все же проникла в здание.
Даже немецкая полиция не решилась остановить профессора Жолио-Кюри, когда он входил в здание Коллеж де Франс. Властно и уверенно он отыскал ключи, рукой хозяина открыл запертую дверь аудитории. Высокий, худой, с горящими глазами, он поднялся на кафедру Поля Ланжевена. Твердым, решительным, хотя и прерывающимся от волнения голосом он обратился к слушателям:
— Профессор Ланжевен, слава и гордость Франции, брошен в тюрьму.
Глаза его были полны слез, но слова звучали в звенящей тишине ясно и четко. Он, профессор Жолио-Кюри, лауреат Нобелевской премии, здесь, в Париже, в центре оккупированной Франции, перед лицом оккупационных властей заявляет: он закрывает свою лабораторию, он прекращает чтение лекций до тех пор, пока не будет освобожден из заточения его учитель Поль Ланжевен.
На следующий день по приказу немецкого коменданта были на время закрыты все высшие школы и университеты Парижа. Приезжим студентам было предписано немедленно покинуть Париж, а студентам-парижанам — ежедневно являться в полицейские комиссариаты.
Немцы расстреляли студенческую демонстрацию и арестовали многих студентов и преподавателей. Но немцам пришлось выполнить требование об освобождении Ланжевена, После сорока трех дней заключения в Санте старого ученого выпустили из тюрьмы и отправили под надзор в городок Труа, в ста пятидесяти километрах от Парижа.
Жолио-Кюри снова открыл свою лабораторию.
В Труа Ланжевен провел три года. Ему предоставили помещение в доме купца, эмигрировавшего в неоккупированную зону Франции. Прослышав об этом, купец прислал Ланжевену письмо, где писал, что польщен такой честью и просит знаменитого ученого располагать его имуществом. Профессор воспользовался оставшейся от купца почтовой бумагой, и друзья получали от него письма со штампом: «Господин Ферней, торговля мясом и скотом», ниже изящным почерком профессора было приписано: «Ланжевен, его наследник». В доме оставались еще мебель и кое-какие вещи, но однажды немецкие солдаты во главе с какой-то фрау ворвались в квартиру Ланжевена. Немка тыкала тросточкой и указывала: «Это! Это!», а солдаты уносили указанные вещи в машину. Немке понравилось все, в том числе личные вещи Ланжевена. После ухода немцев остались лишь две табуретки на кухне.
А назавтра в квартире Ланжевена снова появилась мебель. Ее принесли местные жители: кто стул, кто кровать, и даже старинные неуклюжие кресла из мэрии.
Окрестные крестьяне и жители города как могли заботились о Ланжевене. Случалось, что у порога своего дома, на ступеньках Ланжевен находил пакетик с сахаром, мешочек крупы, хлеб.
Немцы обязали Ланжевена два раза в неделю являться в комендатуру. И дома они не давали ему покоя. Придя однажды с обыском, немецкий офицер нашел на столе у Ланжевена открытую книгу — «Война и мир» Льва Толстого. «Что вы читаете?» Старый ученый указал ему. Это были страницы о разгроме наполеоновской армии под Москвой. «На этот раз с немецкой армией не будет ничего подобного», — заявил немец. Ланжевен не ответил.
Он продолжал работать. Здесь, в Труа, он заканчивал свои старые теоретические работы по ионизации газов. И здесь же, под бдительным полицейским надзором, больной и измученный, он трудился над проектом реформы образования, которую он еще надеялся осуществить.
Втайне от немцев Ланжевен еженедельно читал лекции по физике группе учениц женской школы.
Однажды вечером, в мае 1942 года, профессор Ланжевен пришел на очередное занятие. Но он не мог прочесть лекцию. Незнакомый рабочий тайком принес ему вчера клочок бумаги, найденный на железнодорожном полотне. Это была записка, которую дочери Ланжевена, Елене, удалось выкинуть из окна вагона для скота, когда ее везли мимо Труа в лагерь смерти Освенцим. В записке Елена сообщала, что немцы расстреляли ее мужа, любимого ученика Ланжевена, талантливого физика Жака Соломона.
Сказав об этом, Ланжевен попросил своих слушательниц:
— Поставьте, пожалуйста, патефонную пластинку.
— Какую?
— Девятую симфонию Бетховена.
Он слушал, закрыв глаза, приложив руки к вискам своим обычным жестом. Музыка кончилась. Он поднялся. Глаза его были полны слез.
— Больше я ничего не могу сказать вам сегодня.
И он ушел.
Зимой 1942 года Ланжевен снова был подвергнут тюремному заключению. Его продержали около месяца, на этот раз не в одиночке, а в общей камере с ворами и бандитами. Он рассказывал позже: