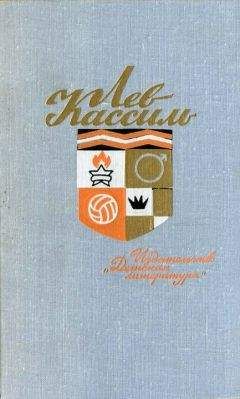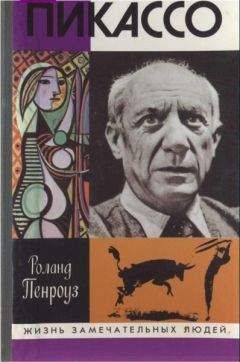Винсент Ван Гог. Человек и художник - Дмитриева Нина Александровна
Всего у Ван Гога за полтора года было шесть приступов — два в Арле и четыре в Сен-Реми — различной силы и длительности: от нескольких дней до месяца, причем последние пять месяцев приступов не было совсем. Как только к нему возвращалось сознание, он принимался за работу и за писание писем — и ни в одном из множества писем нельзя обнаружить ни малейшей спутанности в мыслях: случай, кажется, беспрецедентный. «По-моему, доктор Пейрон прав, утверждая, что я не сумасшедший в обычном смысле слова, так как в промежутках между приступами мыслю абсолютно нормально и даже логичнее, чем раньше. Но приступы у меня ужасные: я полностью теряю представление о реальности» (п. 610).
«Логичнее, чем раньше» — не иллюзия больного: как ни странно, так оно и было на самом деле; во всяком случае, такое впечатление выносишь из чтения его писем последнего периода. Кажется, что выход болезни «наружу» после предшествующего скрытого ее развития явился в некотором смысле очищением: раньше затаенная болезнь иррадировала, теперь она обособилась от личности художника, локализовалась в тяжелых пароксизмах, за пределами которых он оставался «нормальнее», чем когда-либо. Настолько, что мог судить вполне объективно о своей болезни, как бы со стороны. «Я отчетливо сознаю, что болезнь давно уже подтачивала меня и что окружающие, замечая у меня симптомы душевного расстройства, испытывали вполне естественные и понятные опасения, хотя сам-то я ошибочно считал себя вполне нормальным. Это заставляет меня смягчить свои суждения о людях, которые, в сущности, хотели мне добра и которых я слишком часто и самонадеянно порицал» (п. 586).
На него произвела глубокое впечатление надпись на одном древнеегипетском надгробии: «Феба, дочь Телуи, жрица Осириса, никогда ни на кого не жаловавшаяся». Он упоминал об этой неведомой египтянке многократно, добавляя: «Рядом с нею я чувствую себя бесконечно неблагодарным» (п. 582). «Ни на кого не жаловаться» — стало отныне его излюбленной нравственной максимой. Но без насилия над собой или натужной экзальтации, какие улавливаются в ультрарелигиозных максимах юного Винсента, когда он мечтал посвятить себя служению церкви. Теперь он прост и естествен. Вопреки обычному — разрушительному — действию психических заболеваний на характер, его характер улучшился, былая нервическая раздражительность исчезла. Если парижские знакомые Винсента вспоминали о нем как о человеке вспыльчивом, неуравновешенном, резком, хотя и добром, то в последние месяцы жизни все, начиная с пастора Салля и больничного персонала и кончая обитателями Овера, отмечают его мягкость, деликатность и поражаются разумной ясности суждений этого необычного «помешанного».
У него как будто открылись глаза и на те простые вещи, которые он в прежние годы не замечал. Когда решался вопрос, куда ему уехать из Арля, Винсент неожиданно высказал намерение завербоваться на военную службу. Тео, разумеется, нашел этот проект ни с чем не сообразным. Ответ Винсента характерен для его нового душевного настроения: «Ты завербовался гораздо раньше, чем я, — я имею в виду службу у Гупиля, где тебе приходилось довольно часто переживать неприятные минуты, за которые тебе никто не говорил спасибо. И, конечно, ты делал это с усердием и преданностью, потому что наш отец был обременен большой семьей, и это было необходимо, чтобы все шло как надо, — я много и с большим чувством думал об этих давних историях во время своей болезни» (п. 590). Теперь он в полной мере оценил отношение Тео к семье, стал часто и с особенной нежностью писать матери, добрым словом поминать отца. Тоскующие воспоминания о родине проникают в его живопись и рисунки.
Увидеть печать психического расстройства в поздней живописи Ван Гога можно только предвзято. Не зная заранее, что художник был болен, никто бы этого не подумал. Сам Винсент, правда, делал такие самонаблюдения: они касались дисгармонирующих тонов в некоторых полотнах. «Некоторые из моих картин, когда я сравниваю их с другими, обнаруживают следы того, что их писал больной. Уверяю тебя, что я делал это не нарочно, но, помимо моей воли и расчетов, появляются эти разобщенные тона» (п. В-16). Так говорит он сам; в общем же его работы в Сен-Реми и Овере не уступают арльским в силе художественных концепций и выражения, а иные идут и дальше.
Не печать болезни, но печать тоски, вызванной сознанием своего несчастья, действительно чувствуется во многих, хотя и далеко не во всех, поздних работах Ван Гога. Он жил под лезвием нависшего над ним меча. «Очень возможно, что мне еще придется много страдать. И это мне совсем ни к чему, по правде говоря, потому что я меньше всего стремился к карьере мученика. Я всегда искал чего-то другого, чем героизм, которого у меня нет, хотя, конечно, я преклоняюсь, находя его у других, но, повторяю это не мое назначение и не мой идеал» (п. В-11). Именно потому, что болезнь не усыпляла его интеллект, он не мог, как ни старался, избавиться от ужаса перед будущим, которое его, как он предполагал, ожидало: стать в конце концов действительно сумасшедшим. Возможно, такая перспектива ему и не грозила даже в отдаленном будущем — но что знал он сам, что знали даже лечившие его (вернее — не лечившие) врачи о природе таинственной болезни? Чем яснее он мыслил, чем более трезво рассуждал, тем больше опасался такого исхода. Он был очень далек от гимнов «священному безумию», которым предавался Ницше, не верил в творческую плодотворность болезненной эйфории и лишь убеждался, наблюдая своих соседей в убежище, что болезнь превращает их в тупых жвачных животных. Не случайно он покончил с собой в абсолютно ясном сознании, когда припадков долго не было, — ожидание, что они вот-вот возобновятся, было непереносимо.
Последнее письмо Винсента брату перед отъездом в убежище Сен-Поль в Сен-Реми, куда он отправился в начале мая 1889 года, проникнуто усталостью и печалью. Он прощается с живописью, говорит, что со временем, может быть, останется санитаром в больнице — «лишь бы снова начать хоть что-нибудь делать». Он, впрочем, надеется продолжать рисовать в убежище, потому что работа его успокаивает и отвлекает, а кроме того, добавляет он нерешительно, она еще может «стать источником какого-то заработка».
И все-таки он не может говорить о живописи отстраненно. Жадно расспрашивает о парижских выставках, о художниках. Подводя итоги тому, что сделано им самим, еще раз настойчиво повторяет, что вернулся к тем взглядам, которые были у него до Парижа. У него вырывается фраза: «Иногда я жалею, что не остался при своей серой голландской палитре». «У Милле почти совсем нет цвета, а какой он, черт возьми, художник!»
«Надо быть справедливым, дорогой брат. Поэтому, расставаясь с живописью, я говорю тебе: не будем забывать теперь, когда мы уже слишком стары, чтобы числиться среди молодых, что мы в свое время любили Милле, Бретона, Израэльса, Уистлера, Делакруа, Лейса. И будь уверен, что я не мыслю себе будущего без них, да и не желаю такого будущего» (п. 590).
Слова о «расставании с живописью» были только словами. Неуемный творческий гений владел Ван Гогом по-прежнему, и повелительный внутренний голос: «Работа должна быть сделана» — не умолк. В убежище, в окружении сумасшедших и слабоумных, которых он не без скорбного юмора описывает в письмах, в комнате с зарешеченным окном, он работает с «глухим неистовством».
Убежище Сен-Поль находилось поблизости от маленького прованского городка Сен-Реми, в красивой местности с рощами олив, полями пшеницы и видом на отроги Малых Альп. Помещалось оно на месте старинного монастыря августинцев, от которого сохранилась часть здания и церковь, было окружено парком, чьи величественные сосны, каменные скамьи и фонтан запечатлены на многих полотнах и рисунках Винсента. Больных в это время было мало, так что Винсент, кроме отдельной комнаты внизу, мог пользоваться еще верхней комнатой как мастерской. Ему разрешалось выходить работать и в поля — в сопровождении санитаров.
Заведовал больницей доктор Пейрон — человек корректный, внимательный, но отнюдь не специалист по душевным болезням. Собственно, это было именно убежище, а не лечебница — больных фактически не лечили: все лечение ограничивалось длительными ваннами и регулярным режимом. Для Ван Гога это было убежище от жизни, измучившей его тягостными, неразрешимыми проблемами: мрачно гротескная модель участи художника, обреченного на отрыв от «реальной жизни», вытолкнутого из нее, вынуждаемого стать воистину «машиной, производящей работу». «Мы так мало знаем жизнь, — писал он сестре из Сен-Реми, — мы до такой степени не видим ее оборотную сторону, наконец, мы живем в столь зыбкую эпоху, когда все кажется пустой болтовней, что не самое большое несчастье — быть вынужденным спокойно сидеть в своем углу и понемножку заниматься своим делом, более простым, имеющим однако какое-то право на существование… Мы не знаем — нужно ли смеяться или плакать, и, не делая ни того, ни другого, мы еще в состоянии радоваться, когда у нас есть немного красок и холста, чего часто тоже не бывает, и мы по крайней мере можем работать» (п. В-13).