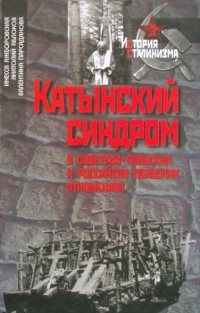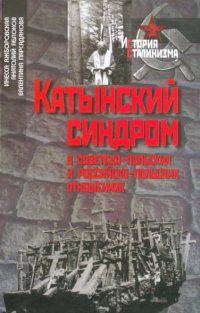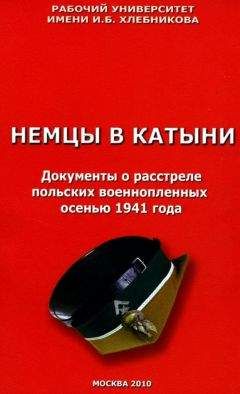Станислав Свяневич - В тени Катыни
В Козельск мы прибыли в первые дни ноября. Сначала мы ехали на север, в сторону Брянска, а оттуда — на восток, на Тулу. Нас вновь везли в товарных вагонах, но на этот раз в них были сооружены двухэтажные нары. Я расположился между полковником Кюнстлером и подполковником Тышиньским. Во время этого этапа я случайно узнал, что местечко Плебание, в котором мы перед войной отдыхали с семьей, входит во владения его семьи. Естественно, мы быстро нашли много общих знакомых. Выгружались мы из вагонов уже глубокой ночью, и несколько часов нас конвоировали по городским улицам. Но мы не встретили ни единого человека; покосившиеся, давно не ремонтированные домишки были погружены в сон. Часто нам приходилось обходить огромные грязные лужи, в огромном множестве встречавшиеся на немощеных улочках.
Конвой, хотя и имел сторожевых собак, не был строгим, и, пожалуй, можно было попробовать улизнуть. Я подчеркиваю эту либеральность конвойных оттого, что пять месяцев спустя, при ликвидации козельского лагеря и отправке пленных в Катынь, никаких поблажек уже не делалось. При погрузке в грузовики нас тщательно проверяли и обыскивали, отбирая все острые предметы. Да и везли нас уже не по городским улицам, а вокруг города, и погрузка в вагоны была не на станции, а поодаль, на запасных путях. Видимо, наши конвойные старались, чтобы этапы, отправляемые в Смоленск, как можно реже попадались на глаза местным жителям. Тогда же, по прибытии в начале ноября в Козельск, все делалось более просто.
Лагерь в Козельске состоял как бы из двух частей: монастыря, известного в России под названием Оптина пустынь, и скита. Монастырь сыграл видную роль в истории русской Церкви, особенно перед революцией.
Монастырь состоял из нескольких десятков каменных зданий и церквей, отгороженных стеной и рвом. Видимо, некогда он был важным оборонным рубежом на границе Московского государства и Великого княжества Литовского. Скит располагался в небольшом лесочке и первоначально предназначался для житья пожилых монахов. Постепенно там построились странноприимные дома и гостиницы для паломников. В основном это были небольшие деревянные домики. Профессор Виктор Сукенницкий написал прекрасную работу об условиях жизни и о топографии козельского лагеря. Я видел эту работу в рукописи лет 25 назад, но, к сожалению, не слышал, чтобы она увидела свет.
Первое время я провел в скиту, где меня поместили в маленьком бревенчатом домике, среди знакомых мне по Путивлю кавалерийских офицеров. Среди нас, впрочем, было несколько офицеров-танкистов, легко узнаваемых по кожаным курткам. Был среди них и капитан Козилл-Поклевский, владелец пушной фермы под Вильно, я слышал о нем еще до войны, когда его жена работала секретарем богословского факультета университета. Мы с ним провели замечательный вечер, сидя на соломе у печи и вспоминая традиции польской кавалерии. Разговор этот был чем-то вроде наркотика для меня — так приятно было вспоминать с земляком в часы поражения блистательные события минувшего.
На следующий день началась селекция заключенных. Делили нас на две группы. В первую входили жители Литвы и польских территорий, оккупированных немцами, т. е. те, которых никак нельзя было причислить к советским гражданам. Во вторую группу входили жители восточных территорий, которые русские считали своими землями, и, следовательно, их население — советскими гражданами. Я попал в первую группу не только оттого, что Вильно входило в состав Литвы, но и потому, что при регистрации дал неверные данные о себе. Я чуть изменил звучание своей фамилии и, ни слова не говоря о своем профессорском звании, заявил, что был сотрудником Торгово-промышленной палаты в Варшаве. Разоблачили эту мою ложь только в марте 1940 года при ликвидации козельского лагеря. Первая группа была размещена в монастыре, вторая — в скиту, и между нами практически не было связи. Правда, мы получали иногда известия друг от друга, используя для этого либо русских служащих, посещавших обе части лагеря, либо через тех обитателей скита, что иногда приводились в монастырскую баню.
Мои впечатления о жизни в козельском лагере можно найти в моих воспоминаниях, помещенных в книге «Катынское преступление», вышедшей с предисловием генерала Андерса и под редакцией профессора Здислава Сталя в 1948 году8. Мне не хотелось бы тут повторяться, и посему я отсылаю интересующихся к этому сборнику, но кое-что, на мой взгляд, наиболее интересное и существенное, я все же опишу и в этих моих воспоминаниях.
Почти сразу же по сформировании лагеря стало ясно, что сформирован он для проведения следствия над каждым из пленных и селекции их по степени пригодности для советского режима. Естественно, следствие проводил НКВД. Необходимо сказать, что Советский Союз не был участником международной конвенции о военнопленных, не отличался особым уважением к человеческой личности и руководствовался в отношении пленных единственно своими собственными политическими целями, в двух словах которые можно описать, как достижение победы мировой революции9.
Руководил следствием комбриг Зарубин, занимавший довольно высокое положение в НКВД человек достаточно образованный, владевший несколькими языками и очень приятный собеседник. Мне он напоминал образованных жандармских офицеров царской России, которых мне в юности пришлось узнать. Более подробно я его описал в моих воспоминаниях в сборнике «Катынское преступление»10. Ему подчинялась группа следователей в званиях от лейтенанта до майора, основной задачей которых было составление индивидуальной характеристики на каждого из нас. Причем характеристики эти базировались не только на личных беседах и наблюдениях, но и на других доступных материалах. Достать же такие материалы не представляло большого труда, особенно в отношении тех офицеров, что проживали на оккупированной Советами польской территории. Кроме того, в лагере было довольно много энкаведешников из числа младшего командного состава. Эти занимались в основном проведением политических бесед, мы их называли по советскому образцу «политруком». Официальной их задачей было выяснение в ходе политбесед степени лояльности каждого из нас к советской системе, и надо думать, после каждой такой беседы они должны были составлять подробный рапорт. Последнее слово скорее всего принадлежало комбригу. Он довольно часто ездил в Москву, и, надо полагать, посещал лагеря польских пленных в Старобельске и Осташкове. Безусловно, его мнение сыграло свою роль в катынских событиях, хотя я и далек от мысли, что именно он принял решение о физической расправе над польскими офицерами. То же, что он мог распоряжаться отдельными судьбами, — это бесспорно. Во всяком случае, именно так случилось со мною. Так же скорее всего случилось и с профессором Вацлавом Комарницким, прекрасным знатоком конституционного и международного права, мобилизованного на службу в военный трибунал. Комбриг еще в самом начале следствия распорядился перевести профессора Комарницкого, который был в звании подпоручика, в офицерский барак, заселенный в основном полковниками, где условия жизни были много лучше. После ликвидации козельского лагеря Комарницкий попал в Грязовец и сразу же после заключения договора между Майским и Сикорским в 1941 году выехал в Лондон, где получил портфель министра юстиции в правительстве генерала Сикорского. По прибытии в Лондон профессор предпринял серию демаршей через польский МИД и посольство СССР с целью освободить меня из советского лагеря, куда я был помещен вопреки советско-польской договоренности.