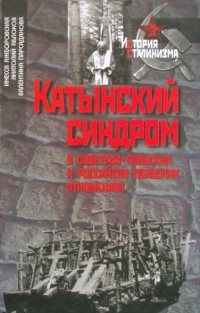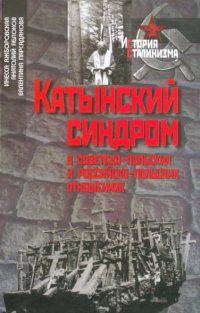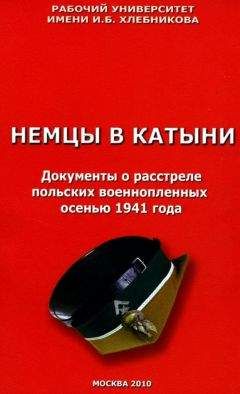Станислав Свяневич - В тени Катыни
В Путивле я встретился и с молодым ученым, перед самой войной получившим кафедру психиатрии Университета Стефана Батория, доктором Годловским. До него на этом посту был всемирно известный нейролог профессор Розе. Розе много лет работал в Германии, но с приходом нацистов к власти ему, еврею, пришлось выехать из страны. Впрочем, он скоро получил место в Вильно, где при университете специально для него был создан Институт изучения мозга. Именно этому институту был передан для изучения мозг маршала Пилсудского. Сотрудники, среди которых было немало почитателей маршала, отнеслись к порученному заданию с огромным энтузиазмом. Скоропостижная кончина профессора Розе была сильным ударом для института. Поиск подходящего преемника привел к тому, что выбор пал на 37-летнего доцента Ягеллонского университета доктора Годловского. Годловский вместе с семьей перебрался в Вильно летом 1939 года и готовился с началом нового учебного года приступить к своим обязанностям. С началом войны он был мобилизован, получил чин поручика медицинской службы и направлен в какое-то подразделение на Волыни. В плен его взяли, что называется, с поезда, которым его батальон транспортировался для участия в боях с немцами.
Профессор Годловский выступил перед пленными в Путивле с лекцией о задачах и методах изучения мозга. Его лекцию можно считать первой ласточкой самодеятельной просветительской кампании, так широко развернувшейся позже в Козельске. Инициатива проведения лекций принадлежала генералу Волковицкому, с первых дней нашей лагерной жизни уделявшего пристальное внимание поддержанию морального духа пленных на должной высоте. Было это в октябре 1939 года, то есть как раз тогда, когда в нормальных условиях в польских университетах начинается первый семестр. И если бы не война, то профессор Годловский именно в эти дни читал бы свою первую лекцию, которая по традиции Виленского университета должна быть прочитана для самой широкой аудитории. Но свою первую лекцию в должности заведующего кафедрой он, увы, прочитал, хотя и публично, но не в университетских стенах, а перед военнопленными путивльского лагеря. Он стоял перед нами в начищенных ботинках, чуть ниже среднего роста, с немного бледным лицом, слегка опершись на печь, и одухотворенно говорил о своем предмете. Из окон были видны заборы из колючей проволоки, большевистские патрули, а дальше — неоглядные поля свеклы, а в избе, в ужасной тесноте сидели на полу офицеры и слушали лекцию о строении и функциях головного мозга. «Это тот, которому доверили мозг маршала», — сказал кто-то за моей спиной.
Профессора Годловского я часто встречал потом в Козельске, где он жил в холодной и какой-то особенно неудобной комнате. Я запомнил его сидящим в ботинках и шинели на нарах и читающего по-английски мемуары Черчилля о Первой мировой войне. Он не был ни оптимистом, ни пессимистом, и его никогда не охватывали изменчивые настроения, волнами ходившие по козельскому лагерю. Он всегда был спокоен и уверен в себе. Короче говоря, он имел редкий дар быть постоянно тактичным в отношении окружающих, а особенно — в отношении своих пациентов. Я не заметил, чтобы профессор был особенно дружен с кем-нибудь. Отношения его были ровными со всеми, и, в свою очередь, окружающие относились к нему с уважением, и я ни разу не слышал ни единого злого слова в его адрес. От него как бы исходили гармония и внутренняя сила, облегчавшие его отношения с людьми. Не помню, когда он был отправлен в Катынь, но, кажется, он был послан туда одним из первых.
Из других пленных, встреченных мною в Путивле, помню еще генерала Богатыревича и евангелистского капеллана полковника Пешке. Генерал Богатыревич был уже глубокий старик, ему было за семьдесят, и уже много лет он был в отставке. Большевики нашли и арестовали его в Друскинае. Во время советско-польской войны он командовал Гродненским пехотным полком, входившим в состав Второй белорусско-литовской дивизии, ставшей позднее 29-й пехотной дивизией. Старик, несмотря на частые сердечные приступы, старался держаться в лагере бодро, часто шутил и пытался заразить своим оптимизмом других.
Капеллан полковник Пешке был всеобщим лагерным любимцем. Позже он вместе с нашей группой был доставлен в Козельск, где и разделил спустя некоторое время участь польских армейских священников. В Сочельник 1939 года они были вывезены в неизвестном направлении и расстреляны, может быть, даже там же, в Катыни. Я бы даже рискнул предложить гипотезу, что расстрелы в катынском лесу скорее всего начались уничтожением на Рождество 1939 года римско-католических священников (ксендзы Войтыняк, Скорела, Новак и другие).
В Путивле вся наша группа офицеров 19-й пехотной дивизии была размещена в одной избе, где мы спали в ужасной тесноте прямо на полу. Не было и речи, чтобы спать на спине. Более того, если кто-то среди ночи хотел перевернуться с бока на бок, он должен был сначала разбудить и предупредить соседей. Маневр этот можно было осуществить только всем сообща и по команде — так было тесно. Со мною рядом обычно ложился полковник Новосельский, а мои ноги упирались в генерала Волковицкого. Генерал часто рассказывал нам о своей жизни, весьма богатой событиями и приключениями. Так, он рассказал нам о попытке своего побега из японского плена, куда он попал в 1904 году, во время русско-японской войны. Но был пойман на корабле, шедшем в Австралию. Не зная ни слова по-английски, он пытался выдать себя во время ареста за сына какой-то англичанки. Японцы его судили и приговорили к двум годам тюремного заключения. Однако отсидел он всего шесть недель. Он с юмором рассказывал нам о японской военной тюрьме, где не было ни ложек, ни стульев. Наше нынешнее положение, впрочем, мало отличалось от заключения мичмана Волковицкого. И как с юмором заметил генерал, единственным его богатством была пара кальсон, исправно заменявшая подушку. Генерал имел сильное чувство товарищества и ежедневно отдавал часть своей хлебной пайки молодым офицерам, говоря, что не голоден.
Полковник Густав Новосельский и в плену был, как всегда, малоразговорчив, но, когда он все-таки решался говорить о своей предвоенной жизни, голос его становился еще тише и как-то мягче. Да и рассказывал он немного: об умершей незадолго до войны от туберкулеза жене, о безрадостных днях своего вдовства, о своей сестре и о милых его сердцу товарищах по Высшей военной школе. И тем не менее, все мы чувствовали, что и здесь, в плену, он остался нашим командиром, не только по приказу свыше, но и по нашему выбору.
Как-то нам выдали доски, и мы сколотили из них двухэтажные нары. И вновь мое место оказалось рядом с полковником Новосельским. С другой стороны расположился подхорунжий, о котором я уже писал, что он мог уйти из лагеря, но добровольно остался разделить судьбу своих боевых товарищей. Нам удалось добиться разрешения на проведение утренней гимнастики, которую стал проводить один из командиров нашего полка, закончивший перед войной Институт физической культуры. Он выделялся в нашей компании еще и тем, что не был уроженцем Шленска, как большинство из нас, а происходил из Мазура. Не могу вспомнить его имени, в памяти только осталось выражение его лица и энергичная походка. Он обладал замечательным чувством юмора, и его шутки скрашивали наше житье и в Путивле и позже, в Козельске. Когда кто-нибудь начинал говорить о возможности нашего скорого освобождения, он любил повторять: «Ну да, самые трудные — первые три года, потом будет легче». Мы тогда не могли себе представить, что наше заключение может оказаться столь долгим, и слушатели обычно брызгали смехом, воспринимая его слова как добрую шутку. А тем временем именно так все и получилось — те, кому удалось избежать катынского расстрела, пробыли в Советском Союзе почти три года.