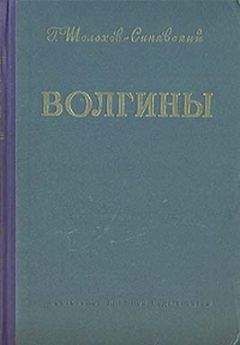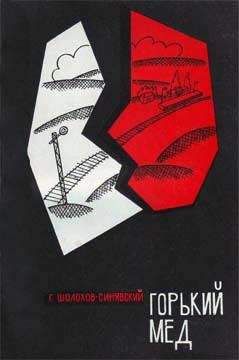Георгий Шолохов-Синявский - Отец
Я съеживался и, боясь что-нибудь сказать в свою защиту, быстро прятался или убегал… Но однажды, когда щипок за ухо оказался слишком болезненным, а прозвище «клоп» нестерпимо обидным, я, не помня себя, ощетинился, крикнул слезным голосом:
— Сами вы — клоп! Ящерица! — и опрометью выметнулся из хаты.
— А? Каков? — озадаченно покачал головой Шурша. — Оказывается и в мальчишке злость есть…
Моя ответная выходка даже как будто обрадовала Кирика. Удовлетворенно усмехнувшись, он добавил:
— Люблю злых… Терпеть не могу добрых… слюнтяев.
Мать строго пожурила меня за невежливость и передала мне странные слова Шурши. Но после этого случая я еще больше стал сторониться нового машиниста.
Шурша кормился у нас за плату — два с полтиной в месяц. Он не мог есть общую пищу из одного котла с рабочими, объясняя это болезнью желудка и печени, и часто просил мать готовить особо для него — молочную кашу, куриный бульон, кисель или что-нибудь в этом роде. И мать, ограничивая нас в еде, прилежно готовила требуемые блюда, старалась угодить машинисту, как самому привередливому барину.
Но Шурша и по происхождению, и по воспитанию очень далек был от барства.
Однажды вечером, разговорившись, он поведал отцу и матери одну из тех историй, которые заставляют содрогаться душу. Рассказывал он так же, как ходил — быстро, сыпля словами, как пригоршнями гороха. И слова были острые, насмешливые, злые, грубо откровенные, то и дело заставлявшие мать испуганно поглядывать на рассказчика и зажимать мне уши.
— Мать прижила меня с каким-то слесаришкой еще при жизни папаши, — хвастливо рассказывал Шурша. — Папаша мой был хиляк, на ладан дышал и кровью харкал. Подвернулся он раз под рельс во время проката, ну и толкнуло его в грудь маленько. Рельс был еще красный, огненный… Думали, амба, черный гроб папаньке моему, ан нет, отзевался, ожил, но толку от него потом было мало: проковылял годик-два, покашлял, да и окачурился. Сирота в мужичьей семье — это еще тютельки, а вот в таком семействе, как наше, в землянке, где жабы по ночам курлыкают, дым да смрад от завода, а в четырех стенах — ни шиша, тут оставаться сиротой — это вам, дубинники орловские, не землю сохой ковырять, не на пузичке на печке лежать и дожидаться, пока хлеб поспеет. Восьми лет от роду пошел я на завод — стружку подбирать. Кому — школа, а мне — горячая стружка да подзатыльники. Так и рос, зарабатывал в день четвертачок, а в месяц выходило рублей семь-восемь. Так было, пока сам на ноги не поднялся. Тут уж я научился тому, чему вас никогда не учили и что вам даже не приснится. Знаете, что такое штрафы? Не знаете, где уж вам! А жандармы? А казаки? Не слыхали? Случилась у нас однажды забастовка прямо под пасху. Нужда, она не ждет, когда придет срок. Начали мы в страстную субботу. Попы в колокола ударили, а мы во все гудки. Такой дали хор, что звону не стало слышно. Куда там вам «Христос воскресе»! Мамаша моя, царство ей небесное, пугливая была — схватилась и говорит: «Что же это, Киря, деется, никак, светопреставление началось? Как же мы ласочку будем святить? Бери-ка ты узелок с пасочной да беги в церковь — посвяти кулич да яички, авось, нас боженька к себе на небо пустит». А я ей: «Маменька, какое тут освящение, когда черти в дудки дуют и самого Иисуса Христа в мазуте купают и на тачке вывозят». — «Ах ты, говорит, шибельник, богохульник! Чтоб у тебя, у анафемы, — язык отсох! Сейчас же бери пасху и беги к попу!» Ну, я пасху в руки, вроде бы в церковь, а сам — на завод. А там уже наша братия разговляется. Поймали мы одного мастера бельгийца — такой был аспид, ябеда и стерва, поедом ел рабочих. Взяли мы его за ноги, раскачали да в домну вместе с рудой и спустили…
В этом месте рассказа я задрожал, сжался в своем углу в комок. Восприимчивое детское воображение уже нарисовало страшную картину: пыхающее адским пламенем жерло печи, а в нее люди с кочергами, подобно той, какая стояла возле нашей печи, швыряют ябеду мастера. Он визжит, как поросенок, и, попав в огонь, изжаривается…
По спине моей пробегают мурашки. Загадочная Юзовка, с огнедышащим заводом и безжалостными жестокими людьми, встает передо мной. Такой благодатной и ласковой по сравнению с ней кажется светлая степь с ее чистым просторным небом, пахучими травами и цветами, птичьими голосами и пчелиным задумчивым жужжанием.
Отец сидит у печи, слушает рассказ Шурши, склонив голову.
А Шурша, словно наслаждаясь впечатлением, подбирая слова покруче, помрачнее, продолжает:
— Да это что!.. Мы, юзовские, такие — мастеровщина, известное дело. С нами шутки шутить опасно. Никто, конечно, кроме меня да еще троих, так и не знал, куда девался бельгиец. В домне пекло свыше тыщи градусов, там от человека только парок схватился, даже пеплу не осталось. На чугун переплавились мастеровы косточки. Поди узнай, куда девался. Исчез бельгиец, аки дух святой растаял в небесах. А забастовку мы кончили на Красную горку, да мало чего добились, только кое-кого из нашей братии не досчитались. Наверное, в Сибирь погнали. А я в водосточную трубу залез, сидел двое суток. Оттуда меня жандармы и вытащили. Положили на меня печать адову и записали в антихристов список.
При этих словах Шурша обнажил правую руку до самого плеча, показал багрово-синий и кривой, в виде полумесяца, рубец.
— Это казачок один, пошли ему боже почечуй и язву, стеганул меня сабелькой. Людишки-то — звери, знаете, мамаша. Ну, подержали меня в тюремном замке в Харькове годик, выпустили и прописали мне, чтоб я про Юзовку и думать забыл. Так и сказали: в Юзовку ты, Шурша, не ворочайся, а держись заводов подальше. Мамаша моя без меня тихо скончалась, а я вот брожу по свету, где поглуше да побезлюднее — то при молотилке пристроюсь, то в кузне где-нибудь молотком постучу. — Тонкие губы машиниста насмешливо покривились. — Скоро буду ведра да кастрюли паять. А в Юзовку все-таки вернусь. Там дружки-товарищи, там жизнь! Там и воздух каленой сталью пахнет. Не то что тут у вас — подохнешь с тоски, как в пустыне. В городах да заводах люди, как в котле, кипят. А за что страдают? Зачем кипят? Не знаете? Ну и знать вам не советую!
Шурша сверкнул глазами; он чего-то не договаривал, видимо, не желая больше просвещать «землеедов», как он презрительно называл всех обитателей хутора, бессловесных батраков, и отца в том числе. Говоря о муках людей, он изображал только жестокое, пугая нас и часто принижая достоинство человека.
Таков был рассказ Шурши о Ходынском поле, где Кирик, по его словам, присутствовал в день коронации его императорского величества. В рассказе этом ужасов и крови было, пожалуй, больше, чем во всем написанном о Ходынке, что приходилось мне потом читать уже взрослым.