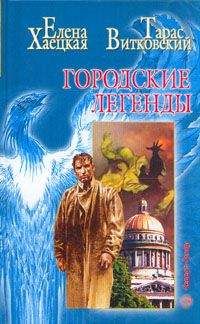Елена Хаецкая - Лермонтов
Итак, в начале пьесы мы видим одинокого и мрачного Юрия, молодого человека двадцати двух лет, и узнаем о конфликте между его бабушкой и отцом. Хуже того, Юрий влюблен в кузину — в задумчивую Любовь. Это чувство запретно, ведь Юрий с Любовью — близкие родственники; однако сердцу не прикажешь…
И тут — отдушина! Приезжает давний приятель Юрия, гусар Заруцкий. Встреча друзей проходит на подъеме; Юрий как будто не слышит, кому он доверяется, с кем откровенничает, настолько сильна потребность Юрия дружить, открыть душу близкой душе.
Юрий. Как ты переменился во время разлуки нашей — однако не постарел и такой же веселый, удалой.
Заруцкой. Мое дело гусарское — а ведь и ты переменился ужасно…
Переменился ли Заруцкий? Ох, похоже, что нет, просто прежде Юрий не видел своего друга хорошенько, ясным взглядом, а теперь начинает подозревать, что отдал «чувства лучшие свои» пустышке.
Но ему необходимо выговориться — конфликт между родственниками измучил его, и потому вопрос об истинной сущности Заруцкого отодвинут, отставлен на задний план.
Юрий. Да, я переменился — посмотри, как я постарел, — о если б ты знал все причины этому, ты бы содрогнулся и вздохнул бы.
Заруцкой. В самом деле. Чем больше всматриваюсь — ты мрачен, угрюм, печален — ты не тот Юрий, с которым мы пировали, бывало, так беззаботно, как гусары накануне кровопролитного сраженья…
Юрий. Ты правду говоришь, товарищ, — я не тот Юрий, которого ты знал прежде, не тот, который с детским простосердечием и доверчивостью кидался в объятья всякого, не тот, которого занимала несбыточная, но прекрасная мечта земного, общего братства…
Заруцкой. Полно! полно! — я не верю ушам своим… Объясни мне — я, черт возьми, ничего тут не могу понять. — Из удальца — сделался таким мрачным, как доктор Фауст! полно, братец, оставь свои глупые бредни…
Юрий спешит выговориться — слова так и рвутся из его «измученной груди»:
«Помнишь ли, как нетерпеливо старался я узнавать сердце человеческое — как пламенно я любил природу — как творение человечества было прекрасно в ослепленных глазах моих — сон этот миновался — потому что я слишком хорошо узнал людей…»
На эту пламенную исповедь Заруцкий как ни в чем не бывало замечает:
«Вот мы гусары — так этими пустяками не занимаемся — нам жизнь — копейка, зато и проводим ее хорошо…»
Юрий как будто не слышит: «Без тебя у меня не было друга, которому мог бы я на грудь пролить все мои чувства, мысли, надежды, мечты и сомненья…»
Семейная распря измучила его.
«У моей бабки, моей воспитательницы — жестокая распря с отцом моим, и это все на меня упадает…»
Раздор между близкими — это лишь симптом общей болезни, и Юрий страдает в основном из-за этого. «… По какому-то машинальному побуждению я протянул руку — и услышал насмешливый хохот — и никто не принял руки моей — и она обратно упала на сердце… Любовь мою к свободе человечества почитали вольнодумством — меня никто после тебя не понимал…» Здесь возникает вдруг образ нищего из стихотворения «У врат обители святой», которое посвящено Екатерине Сушковой. Не только жестокая девушка — вообще все кругом кладут камень в протянутую руку, а ведь рука эта предлагает дружбу и любовь. «Меня никто после тебя не понимал», — говорит Юрий в самоослеплении; но понимал ли его Заруцкий? Сдается мне, Заруцкий — один из тех ложных друзей юности (может быть, неповинно ложных), которые не говорили, но слушали, делали вид, что понимают, но не понимали в силу собственной ограниченности. Высказывая самые сокровенные свои мысли и чувства Заруцкому, Юрий не встречал возражений и считал, будто нашел наконец родственную душу, а Заруцкий просто «хорошо проводил время». Теперь настала пора разоблачения. Заруцкий заговорил.
Сперва Юрий просто не обращает внимания на то, что произносит друг, — обаяние прошлого еще не рассеялось.
А Заруцкий между тем изрекает банальности (если не сказать — пошлости): «Эх любезный, черт с ними!., всех не исправишь!»
Это — после описания космического одиночества, которое испытывает Юрий! Ничего себе, понял и утешил.
А Юрий продолжает исповедь — мало ему интриг, которые выставляют не в лучшем свете самых близких ему людей, — он еще и влюблен! И эта любовь — глубокая, безграничная — сулит ему одну лишь горечь…
Заруцкий и здесь на высоте: «Я помогу тебе — на то и созданы гусары: пошалить, подраться, помочь любовнику — и попировать на его свадьбе».
«Она никогда не будет мне принадлежать, — отвечает Юрий, — я хочу погасить последнюю надежду — я не хочу любить, — а все люблю!..»
Это признание Заруцкий преспокойно пропускает мимо ушей. Он торопится поставить себя вровень с Юрием и сообщает: «Послушай, брат, знаешь ли, я сам люблю и не знаю, любим ли я; мне стало жалко тебя, ты очень несчастлив. — Послушай! зачем ты не пошел в гусары — знаешь, какое у нас важное житье — как братья — а поверь, куда бабы вмешаются — там хорошего не много будет!»
Роковые обстоятельства начинают сжимать вокруг Юрия свои кольца. Заруцкий якобы влюблен — на самом деле это называется «волочиться» — в дочь Василия Михайловича Волина, красивую и кокетливую Элизу, любимицу отца. Мы бы сказали, что Элиза — «блондинка». Она строит глазки и охотно ходит на свидания к гусару, чтобы его «мучить». Гусар, со своей стороны, желает хорошо провести время с красивой барышней. «Женщины так часто нас обманывают, что и не грешно иногда им отплатить той же монетою, — рассуждает сам с собой Заруцкий, закручивая усы. — Элиза эта преинтересная штука, хотя немного кокетится — да это ничего. — Первое свиданье при свидетелях, а второе — тет-а-тет… Можно отважиться — а если нет; ну так можно жениться — впрочем, мне этого не очень хочется. Гусарское житье, говорят, повеселее…»
Совершенно иначе воспринимает чувство к женщине Юрий. Вызвав Любовь ночью на свидание, он признается ей:
«Прошедшую ночь, когда по какому-то чудному случаю я уснул спокойно, удивительный сон начал тревожить мою душу: я видел отца, бабушку, которая хотела, чтоб я успокоил ее старость на счет благополучия отца моего, — с презреньем отвернулся я от корыстолюбивой старухи… и вдруг ангел-утешитель встретился со мной, он взял мою руку, утешил меня одним взглядом, одним неизъяснимым взглядом обновил к жизни… и… упал в мои объятья. — Мысли, в которых крутилась адская ненависть к людям и к самому себе, — мысли мои — вдруг прояснились, вознеслись к небу, к тебе, Создатель, я снова стал любить людей, стал добр по-прежнему. — Не правда ли, это величайшее под луною благодеяние? — и знаешь ли еще, Любовь, в этом утешителе, в этом небесном существе, — я узнал тебя!..»