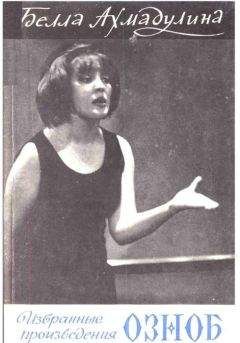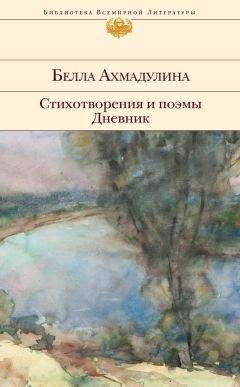Белла Ахмадулина - Поэзия народов Кавказа в переводах Беллы Ахмадулиной
Морис Поцхишвили[160]
ФЕРЗЕВЫЙ ГАМБИТ[161]
Следи хоть день-деньской за шахматной доской —
всё будет пешку жаль.
Что делать с бедной пешкой?
Она обречена.
Ее удел такой.
Пора занять уста молитвой иль усмешкой.
Меняет свой венец на непреклонный шлем
наш доблестный король, как долг и честь велели.
О, только пригубить текущий мимо шлейф —
и сладко умереть во славу королевы.
Устали игроки.
Всё кончено. Ура!
И пешка, и король летят в одну коробку.
Для этого, увы, ненадобно ума,
и тщетно брать туда и шапку, и корону.
Претерпеваем рознь в честь славы и войны,
но в крайний час —
навек один другому равен.
Чей неусыпный глаз глядит со стороны?
И кто играет в нас, покуда мы играем?
Зачем испещрена квадратами доска?
Что под конец узнал солдатик деревянный?
Восходит к небесам великая тоска —
последний малый вздох фигурки безымянной.
Иза Орджоникидзе[162]
«Вот слово — оскудевшее, иссякшее…»
Вот слово — оскудевшее, иссякшее…
Как старый камень, о который всякое
навастривал точильщик остриё,
так слово притупилось от всего,
на что когда-то искры расточало,
покуда вовсе их не расточило.
Не начинать же всё это сначала!
Пора на свалку выкинуть точило.
Друзья мои, вас нет на белом свете.
Но есть на свете веская причина,
чтобы, устав от постиженья смерти,
так смерклось сердце, будто опочило.
Как бедное дитя, скончалось детство,
и юности нежно-зеленый холмик
едва заметен, если приглядеться:
никто его не помнит и не холит.
Но верю я могилам жизни прежней,
и то, что мне мои могилы верят,
свидетельствуют в тишине апрельской
кладбищенские бузина и вереск.
Сраженья, спешка, зов трубы — доколе
жизнь понукать иль сдерживать уздою?
Дни пали, словно загнанные кони.
Я больше не играю со звездою.
Весна в окне — и сколько зноя, звона
и букв в письме, я их не разбираю.
Благодарю тебя за прелесть вздора!
Я со звездою больше не играю.
Моя обитель: горечь и уют.
Таков декабрь, когда придет на юг
и, в свой черёд, походит на альбом,
в котором лик красавицы умершей
являет мне и чудный тот апломб,
сто лет назад сводить с ума умевший.
Уж всякой всячиной воспоминаний
по горло сыты души и леса.
Но, медленней платановых пыланий,
колышется прекрасная слеза.
Пролиться ей еще не вышел срок.
Одна слеза — прощает, знает, помнит.
Дик свет ее, как розовый шиповник, да, как
шиповник между двух дорог…
Из армянской поэзии
Ованес Туманян[163]
«Бессонница моя — твои владенья…»
Бессонница моя — твои владенья,
И ты — не сновиденье, но виденье,
Отчетливое, зримое, как свет.
Ты так прекрасна. Но тебя здесь нет.
Как, поступясь отсутствием своим,
Проходишь ты по комнатам пустым
И близишься, открывши мне объятья,
Но руку протяну — и ты обратно
Уходишь в непроглядность темноты?
Не приходила, но уходишь ты.
Как удается смеху твоему
Звучать в тобой покинутом дому?
И всё лепечешь детскими губами
Ту песенку, что позабыта нами,
И вновь уходишь в тайну темноты.
Не пела вовсе, но умолкла ты.
Бессонница моя — твои владенья,
И ты — не сновиденье, но виденье,
Отчетливое, зримое, как свет.
Ты так прекрасна. Но тебя здесь нет.
1891
«Никто в ночи не ведает — каков…»
Никто в ночи не ведает — каков
Тот труд незримый, что творит природа.
Но вот луга. И в темноте лугов
Роса сверкает при свечах восхода.
Никто не знает степени тоски,
В которую вознесся ум поэта.
Но вот строка. И в темноте строки
Его печаль имеет зримость света.
1892
«Не проси меня петь. Я немого немей…»
Не проси меня петь. Я немого немей.
Я печаль мою пением не обнаружу.
Мне б достало ползвука печали моей,
Чтоб вконец погубить твою бедную душу.
Не по силам тебе эту муку терпеть.
Пощади хоть себя! Не проси меня петь!
Как я пел на горе, средь живой красоты,
Что меня к своим нежным цветам допустила!
Там пустыня теперь. Там убиты цветы.
Ни травинки там нет. Там простерлась пустыня.
На горе, опаленной дыханьем моим,
Не воскреснуть цветам и растеньям иным.
Разве я не надеялся, что разорю
И тебе раздарю всю красу и прохладу:
Золотую, во мгле разлитую зарю
И весну, благосклонную к чистому саду?
Но уму моему не дано превозмочь
Силу пенья, в котором лишь горе и ночь.
1892
РОМАНС
Лились и означали грусть
Ручьи тех глаз, тех уст напевы,
Те слезы, павшие на грудь
Прекрасной и печальной девы.
Терпели губы тяжкий зной,
Труд голоса душа творила,
И, смело плача предо мной,
Она со мною говорила.
Мне речь ее была нова,
И я был очарован ею.
Ее последние слова
Я повторяю как умею:
«Ах, не могу я слёз не лить.
Судьбы моей ничтожна малость.
И лишь любовь… о, лишь… о, лишь…»
И снова плакать принималась.
1892
ИЗГНАННИК Я, СЕСТРИЦА