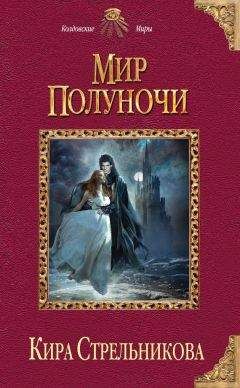Вячеслав Бондаренко - Вяземский
Итак, Жуковский, у которого князь Петр Андреевич еще в 1812 году спрашивал совета, стоит ли писать стихи, благословлял обеими руками и убеждал работать прилежнее. О том же твердил ему и Батюшков — оба упрекали друга в лени. Вяземский ответил посланием «К друзьям», которое начал так:
Гонители моей невинной лени,
Ко мне и льстивые, и строгие друзья!
Благодарю за похвалы и пени —
Но не ленив, а осторожен я!
Пускай, довольствуясь быть знаем в круге малом,
Я ни одним еще не завладел журналом
И, пальцем на меня указывая, свет
Не говорит: вот записной поэт!
Но признаюсь, хотя и лестно, а робею:
Легко, не согласясь с способностью моею,
Обогатить, друзья, себе и вам на зло
Писателей дурных богатое число…
Письмо к Тургеневу еще определеннее:
«Ты шутишь надо мною, когда говоришь, что ты мне желаешь уединения и охоты к трудам мирным. Жуковскому — так, но мне с какой стати? Мне ленивейшему, мне пустейшему и неспособнейшему из смертных! Перекрестись, Тургенев; ты, верно, хотел о Шаликове говорить. Я давно уже знаю и давно говорю, что я ноль: с другими числами могу что-нибудь значить, один — ничего. Жалей обо мне или нет, но верь мне, потому что я говорю правду».
Это, конечно, маска, литературный прием, широко в то время распространенный, — беспечный поэт-эпикуреец, дилетант, жизнь свою проводящий праздно, к стихам своим равнодушный. Но Вяземский репутацию «ленивца» успел за пять лет в словесности заработать всерьез и охотно ее поддерживал: светской жизнью своею, «легкими» жанрами, судьбой «баловня» фортуны. Да, на фоне своих друзей он действительно баловень — самый знатный, сын знаменитого вельможи, известен далеко не только стихами, как Жуковский, но и модными нарядами и обедами… Жуковский и Батюшков рядом с ним в литературном плане выглядят куда основательнее: трудолюбивы, очень образованны, хотя в стихах у них тоже пиры, дружба, венки из роз, кубки… Оба усердно пишут, переводят, планируют (Батюшков — перевод «Освобожденного Иерусалима» Тассо, Жуковский — поэму «Владимир»); для них жизнь — поэзия. А Вяземский жизнь и поэзию совмещает. Он не хочет вставать каждый день в пять утра, как это делает Жуковский, и усаживаться за словари, за книги, заниматься самообразованием. Он с легкостью уступает друзьям первые места на Парнасе, а тех это сердит. «Пиши, пиши стихи!» — наперебой твердят ему со всех сторон…
Конечно, друзья желали Вяземскому только добра. В самом деле, не идеал ли русского поэта видели они тогда в нем?.. Когда еще в России рождался на свет умный, образованный, богатый и знатный человек, который сочинял хорошие стихи? Если аристократы и брались за перо, то получалось в лучшем случае что-нибудь не очень пристойное, а в худшем — просто банальное. Князь Долгоруков, князь Горчаков… Это не поэты, а стихоплеты. Ломоносов, Сумароков, Херасков, Державин, Дмитриев, Карамзин — все выходцы из бедных или небогатых, незнатных, провинциальных семей, все они потратили много времени на то, чтобы выбиться в люди, войти в литературные круги. И сами Жуковский с Батюшковым немало испытали, прежде чем добились известности… А тут человеку все само в руки плывет. И он не стихоплет, при желании из него может получиться большой поэт. Ему можно не убивать время службой, заниматься только творчеством. А он, похоже, вовсе не собирается пестовать свое дарование.
Вяземский «истинно мужает, но всего, что может сделать, не сделает, — писал Батюшков Жуковскому. — Жизнь его проза. Он весь рассеяние. Такой род жизни погубил у нас Нелединского. Часто удивляюсь силе его головы, которая накануне бала или на другой день находит ему счастливые рифмы и счастливейшие стихи. Пробуди его честолюбие. Доброе дело сделаешь, и она принадлежит тебе: он тебя любит и боится. Я уверен, что ты для него совесть во всей силе слова, совесть для стихов, совесть для жизни, ангел-хранитель». Тут Батюшков не вполне прав. Ангелом-хранителем Жуковский для Вяземского стал гораздо позже. А в молодости князь горячо любил Жуковского, это верно, но любовь эта отнюдь не мешала ему скептически (а временами и ядовито) воспринимать его «небесность» и склонность к уединенному труду. Вот диковатое письмо Вяземского Тургеневу: «Нельзя долго жить в мечтательном мире, и не надобно забывать, что мы хотя и одарены бессмертною душою, но все-таки немного причастны скотству, а может быть и очень. Жуковский же пренебрегает вовсе скотством: это гибельно». Много позже поймет он, что Жуковскому «скотство» вовсе чуждо, что он не такой, каким его хотелось видеть… Но в 1814—1815 годах, используя весь свой небезболезненный иронический дар, Вяземский и так и этак дает друзьям понять, что усидчивого творца, кропотливо отделывающего свои строфы, из него не выйдет. Он «весь рассеяние». И иногда это рассеяние порождает стихи, хорошие ли, худые — другой вопрос. Если худые, он готов даже покорпеть над ними… недолго… Потому что литература — это всего лишь литература. А стоит высунуть из кабинета нос — и вот она, жизнь.
Спустя 60 лет Вяземский сдержанно и со многими оговорками согласился с упреками покойных уже друзей. Признал, что слишком было много в молодости и суеты, и суетности. «Но, может быть, все это происходило между прочим и от смиренного убеждения, что я вовсе не могу считать себя, по дарованию своему, призванным занять трудовое и видное место в литературе нашей, — пишет он. — Я был, так сказать, подавлен дарованиями и успехами двух друзей моих, мало того, я не смел сравнивать себя и с второстепенными дарованиями… Эти слова не унижение паче гордости, а добросовестное и убежденное сознание. Батюшков пеняет мне, что я не вполне посвящаю себя обязанностям и трудам писателя. Но я никогда и не думал сделаться писателем: я писал, потому что писалось, потому что во мне искрилось нечто такое, что требовало улетучивания, просилось на волю и наружу… Впрочем, не хочу оправдывать и прикрывать себя одним смирением. Смирение смирением, но, вероятно, числилась на совести моей в то время и порядочная доля легкомыслия… Как припоминаю себе то время, не могу не сказать, что я тогда не признавал жизни за труд, за обязанность, за нравственный подвиг. Как писал я, потому что писалось: так и жил я, потому что жилось. О служении какому-нибудь высшему идеалу, о стремлении к цели общеполезной я и не заботился и не думал… Довольствовался я тем, что мог уважать в других эти высокие побуждения, эту святую веру в свой подвиг, эту силу и постоянство».
В общем, сам Вяземский так и не признается, чего в нем было тогда больше — трезвого осознания того, что тягаться с великими друзьями бессмысленно, или же молодой беззаботности, вполне понятной. Ясно одно — становиться только поэтом, как Жуковский и Батюшков, он не хотел. Более того — он вообще не хотел становиться поэтом. Это казалось ему слишком скучным и правильным. Все-таки Жуковский и Батюшков старше его, их приучили в пансионах к терпеливому труду на благо собственной души… А он, легкомысленный наследник всей русской поэзии, любит рассеяние. Так что ж дурного в том, что он не похож на Жуковского?.. Жизнь велика. Зачем ограничивать ее только рифмами? Он вполне мог бы подписаться под словами Пушкина: «Мы все, по большей части, привыкли смотреть на поэзию, как на записную прелестницу, к которой заходим иногда поврать и поповесничать, без всякой душевной привязанности и вовсе не уважая опасных ее прелестей».