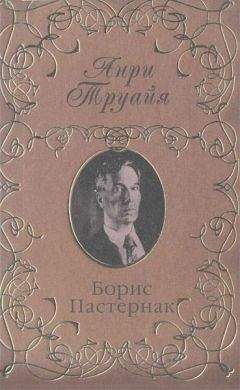Анри Труайя - Эмиль Золя
И вот он уже приступает к «Чреву Парижа»… Если все то, что Эмиль узнавал, собирая сведения о высшем обществе времен Второй империи, его увлекало, то теперь, открывая для себя удивительный мир Центрального рынка, он испытывал такое ощущение, будто погружается в мир видений. Охваченный страстью, он чувствовал себя перед этими грудами припасов, которыми парижане должны были утолить голод, разом и художником, и романистом. День за днем он исследовал ларьки, погреба, кладовые, отмечая форму кровель и расположение различных секторов: мясные, рыбные, зеленные, сырные лавки, справлялся о полицейских предписаниях, налогах и пошлинах, вычерчивал план квартала, подробно описывая каждую улицу со всеми ее особенностями, раздувал ноздри, жадно втягивая мощные и крепкие запахи, исходившие от этого чудовищного скопления пищи.
Понемногу Центральный рынок перестал в его представлении быть всего лишь декорацией, фоном, превратившись в мифическое существо и сделавшись главным героем романа. Интрига в «Чреве Парижа» строится на противопоставлении тощих и толстых. Мечтатель Флоран, из числа «тощих», бывший осужденный и беглый каторжник, снова увлекается политикой и создает тайное общество. Но его выдадут, он будет арестован и снова отправится в Кайенн. Его сводный брат Кеню, «толстый», разбогатевший колбасник, и жена Кеню Лиза, мещаночка с сонной плотью и корыстным умом, не способны представить себе, как это честные люди могут умирать с голоду.
Золя доказывал, что тощие, наивные идеалисты, неизменно терпят поражение от толстых, которые при любом режиме только о том и думают, как бы набить карманы, и «Чрево Парижа» в связи с этим заканчивалось выводами не менее пессимистическими, чем «Карьера Ругонов». Однако читателей того времени поражал не столько глубокий смысл книги, сколько тот поразительный фейерверк ощущений, который вырывался с ее страниц. Шла ли речь о подвозе рыбы, о ее хлынувшей потоком сверкающей чешуе, о беспокойном копошении лангустов, окутанных свежим запахом прилива, или о крепостных валах разнообразнейших сыров, источающих нежное зловоние: от бри до камамбера и от рокфора до канталя, – каждый квадратный метр этого храма жратвы потакал самым низменным желаниям человека и призывал его забыть обо всем, кроме радостей чревоугодия. «Здесь, рядом с фунтовыми брусками масла, завернутыми в листья свеклы, раскинулся громадный, словно рассеченный топором сыр канталь; далее следовали: головка золотистого честера, головка швейцарского, подобного колесу, отвалившемуся от колесницы варвара; круглые голландские сыры, напоминавшие отрубленные головы, с запекшимися брызгами крови; она кажутся твердыми, как черепа, поэтому голландский сыр и прозвали „мертвой головой“… У трех головок бри, лежавших на круглых дощечках, были меланхолические физиономии угасших лун; две из них, уже очень сухие, являли собой полнолуние, а третья была луной на ущербе, она таяла, истекая белой жижей, образовавшей лужицу, и угрожала снести тонкие дощечки, с помощью которых тщетно старались сдержать ее напор… А рокфоры под стеклянными колпаками тоже тщились казаться знатными господами; физиономии у них были нечистые и жирные, испещренные синими и желтыми жилками, как у богачей, больных постыдной болезнью от излишнего пристрастия к трюфелям. Жесткие, сероватые сырки из козьего молока, те, что лежали рядом на блюде и были величиной с детский кулак, напоминали камушки, которые катятся из-под копыт козла-вожака, когда он мчится вперед по извилистой горной тропинке. Затем в общий хор вступали самые духовитые сыры».[81]
Что сыры! Сами торговки съестным у Золя были насквозь пропитаны стойким благоуханием. От юбок зеленщицы Саррьетты пахло сливами. От нормандки, словно неистребимым ароматом духов, въевшимся в гладкую кожу, «веяло приливом, этот душок исходил от ее гордых грудей, царственных рук, гибкой талии, придавая терпкий оттенок ее женскому запаху». Цветочница Кадина сама по себе была «нежным живым букетом». Казалось, на Центральном рынке все – и люди, и вещи – превращается в еду.
Читатели газеты благосклонно приняли роман и, можно сказать, лакомились им, несмотря на то, что порой при виде этого исполинского натюрморта не могли сдержать дрожи отвращения. «Чрево Парижа», вышедшее отдельным изданием, продавалось лучше, чем «Карьера Ругонов» и «Добыча». Критики же разделились на два лагеря. «Обозрение Двух Миров» («La Revue de Deux Mondes») посоветовало Золя отказаться «от нездоровых преувеличений, способствующих извращению вкусов публики». Барбье д'Орвилли в «Constitutionnel» обозвал автора «взбесившимся мазилой». Зато Мопассана роман привел в полный восторг. «Эта книга, – писал он, – пахнет свежим уловом, словно возвращающееся в порт рыбацкое судно, пахнет овощами, с их земляным привкусом, их пресным деревенским благоуханием». Что касается Гюисманса, тот зашел еще дальше: «Попросту признаюсь, что „Чрево Парижа“ доставило мне безмерную радость».[82]
Еще не слишком этому веря, Золя начал понимать, что за его спиной сплотилась группа молодых авторов, готовая во имя истины противостоять идеализму Гюго. Эти новаторы чувствовали себя ближе к Центральному рынку, где священнодействовала колбасница Лиза, чем к собору Парижской Богоматери, приюту Квазимодо, безобразного и влюбленного звонаря.
XI. Истинные и ложные литературные друзья
Золя по природе был одиноким тружеником, и тем не менее с детства им владел дух сплоченности, он всегда испытывал потребность в том, чтобы в час досуга встретиться с друзьями. Но теперь прежние друзья от него отдалились, теперь он совсем не виделся ни с Байлем, ни с Сезанном.
Поль жил уединенно и живописью занимался втайне от всех. «Он стал затворником, он вступил в период проб и ошибок, и, на мой взгляд, он прав, не желая впускать никого в свою мастерскую, – пишет Золя искусствоведу Теодору Дюре. – Подождите, пока он сам объявится».[83] Однако к этому времени Эмиль уже полностью разочаровался в Сезанне – и как в живописце, и как в человеке.
Им стало не о чем говорить друг с другом. Золя понял: никогда ему не понять этого вечно недовольного художника с его резкими перепадами настроения, его бессмысленными вспышками ярости и проблесками гениальности, – и выбрал общество двух молодых уроженцев Экса, Поля Алексиса и Антони Валабрега, перебравшихся в Париж и относившихся к писателю любовно и уважительно. Разумеется, он по-прежнему встречался и с Эдмоном де Гонкуром, хотя догадывался о том, что собрат по перу втайне над ним посмеивается и мелочно ему завидует. Временами ему казалось, что этот эстет, живущий в окружении драгоценных безделушек и пишущий в нарукавниках, издевается над простодушием и неотесанностью приятеля. Тем не менее Золя продолжал делиться с Эдмоном своими переживаниями автора, ищущего успеха у публики, рассказывал тому о своих слабостях. «Не думайте, будто я обладаю волей, – сказал он как-то. – По природе своей я существо самое слабое и нисколько не способное к постоянному усилию. Волю мне заменяет навязчивая идея, и я заболел бы, если бы не подчинился требованиям этой навязчивой идеи». И, обеими руками приподнимая стакан бордо, прибавил: «Смотрите, как у меня дрожат пальцы». «Он говорит, что у него начинает развиваться болезнь сердца, – записывает Эдмон де Гонкур, – что ему угрожает заболевание мочевого пузыря, угрожает суставной ревматизм… Часть дня я провел с этим милым больным, который в разговоре почти по-детски то и дело переходит от надежды к отчаянию».[84]