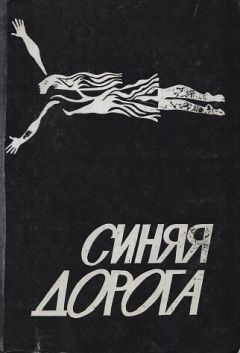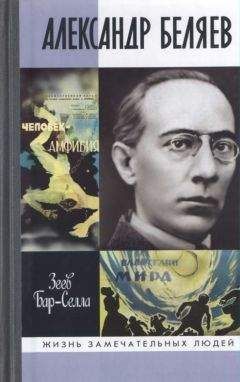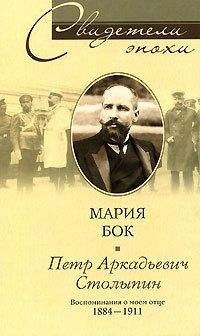Светлана Беляева - Воспоминания об отце
В тот момент я не задумывалась над мамиными поступками, и лишь потом, много лет спустя, перебирая все это в памяти, я поняла и оценила ее мужество и спокойствие, которые она проявляла в трудные минуты. Вспоминая об этом, я задаю себе вопрос — неужели она совсем не боялась смерти? Или забота о нас была сильнее страха?
В дверях мама замешкалась. Убежище было г-образной формы, и мы не видели ее. С трудом открыв дверь, мама воскликнула:
— Вот это штука!
Я не выдержала и поскакала на костылях к ней. У самого входа лежал неразорвавшийся снаряд. Смерть еще раз обошла нас!
Спокойно перешагнув через снаряд, как через бревно, мама направилась к дому. Минут через пятнадцать она вернулась, но не успела сесть, как дверь распахнулась, послышался гортанный грассирующий голос:
— Раус! Раус!
Все поднялись и пошли к выходу. В проеме, широко расставив ноги, стоял немецкий солдат с автоматом наперевес. На нем была пестрая камуфляжная форма, глубокая, до самых бровей, каска, а на груди на цепи висела большая железная бляха с изображением одноглавого орла, держащего в лапах свастику. Немного поодаль стоял второй солдат.
— Шнель, шнель! — торопил он нас, слегка подталкивая дулом автомата, пока мы перебирались через снаряд. Потом он спросил:
— Зольдатен?
Мама, знавшая немецкий язык, ответила ему, что солдат здесь нет.
— Во зинд ли зольдатен?
Мама еще раз повторила свой ответ.
Заглянув в глубь убежища и убедившись, что там никого нет, солдаты ушли. Сбившись в кучу, мы стояли, не зная, что нам делать.
Оглянувшись, один из солдат крикнул:
— Нах хаузе, геен зи нах хаузе!
Опять начался обстрел, и мы, вместо того чтобы идти домой, отправились в подвал кокоревского дома, где прятались почти все жильцы из нашего двора. Он находился через дорогу, на Московской улице. До революции этот дом принадлежал богатому купцу Кокореву, который болел проказой и вынужден был жить один. Дом был добротный, с огромными зеркальными окнами, с высокими потолками и черными резными дверями, инкрустированными перламутром. За несколько дней до нашего прихода в этот дом угодила авиационная бомба, но, к счастью, не разорвалась, застряв между этажами. И хотя последствия могли быть всякие, все почему-то считали это убежище самым надежным.
До войны в этом доме был какой-то институт или техникум и общежитие. Из всех, кто работал и жил в этом учреждении, осталась одна кладовщица. И хотя в городе были уже немцы, она все еще чувствовала себя ответственной за вверенное ей имущество. Ходила она с ключами на поясе и бдительно смотрела, чтобы никто ничего не трогал. Даже шашки, которые хранились у нее в бывшем красном уголке, она давала под расписку. Видно, было трудно в одночасье стать никем!
Весь подвал был забит людьми. Сидели на чемоданах, узлах и даже прямо на полу. Для нашей семьи не оказалось даже маленького местечка. Но когда мама сказала кладовщице, что отец очень болен, она пустила нас в кладовку, где хранились ватные тюфяки. Их было так много, что они почти достигали потолка. Там мы и спали всей семьей. Мне это казалось очень интересным, хотя ощущение от близости потолка было не очень приятным. Люди сидели здесь уже не одну неделю, но никому и в голову не приходило разместиться в красном уголке или других служебных помещениях, лечь на казенные матрацы.
В кокоревском доме собралось довольно много ребят из нашего двора, а потому красный уголок, находившийся тут же, в подвале, скоро превратился в детскую комнату. Только нашим мальчишкам не сиделось на месте, и они бегали смотреть, где чего разбомбило. Из очередного похода они вернулись с «оружием» — игрушечными автоматами, после чего в подвале поднялся такой треск, что взрослым пришлось вмешаться и отобрать шумное оружие.
Через несколько дней после нашего прихода в подвал пришел немецкий офицер и спросил, есть ли среди нас кто-нибудь еврейской национальности. Когда несколько человек отозвалось, он сказал, чтобы они были готовы к девяти часам следующего дня. После его ухода в подвале воцарилась тишина. Никто еще не знал, чего можно ждать от оккупантов. Знакомые евреи из нашего двора подходили к моей бабушке и спрашивали, что она об этом думает. Бабушка, как могла, успокаивала их. Скажу несколько слов о бабушке. Она была на редкость волевым и рассудительным человеком. Умела, как никто другой, успокоить и, конечно же, помочь делом. Всю жизнь к ней приходили люди за советом, доверяя ей самое сокровенное. Никто не видел ее растерянной, унывающей, раскисшей. Бабушке было шестьдесят пять лет, но никто не давал ей столько. Небольшого роста, сухопарая, смуглолицая, с шапкой густых седых волос, она была сама энергия, сама жизнь. А сколько доброты, сколько ласки было в ее словах! Но что она могла им сказать?
На другой день ровно в девять часов явился тот же офицер, но уже в сопровождении солдата. Евреи были уже наготове. Взяв свои вещи, они безропотно пошли к выходу. Среди них была моя знакомая девочка. Проходя мимо меня, она остановилась и сказала полувопросительно, полуутвердительно:
— Нас куда-то повезут... Попрощавшись со мной, она побежала догонять родителей.
После их ухода в подвале воцарилась тяжелая тишина. Никто не знал, куда повели евреев, но было в этом что-то настораживающее и путающее. Больше мы их никогда не видели.
В подвале мы не пробыли и недели. Руководствуясь маминым убеждением — чему бывать, того не миновать, мы вернулись домой.
Водопровод не действовал, и маме приходилось ходить за водой на пруд к Московским воротам. Не было ни тележки, ни коромысла. На семью из четырех человек воды надо было много, и мама ходила по нескольку раз на день. Не знаю, было ли это совпадением, но каждый раз, когда кто-то приходил за водой, начинался обстрел и снаряды падали прямо в пруд. Как-то придя за водой, мама увидела на месте, где она только что брала воду, огромную воронку. Это было уже в третий раз, когда мама избежала смерти.
Хотя отец давно не служил в суде, он оставался законником. В те годы осуждалось всякое накопительство, в том числе и запасы продуктов. Как-то придя в кухню, отец увидел, что в открытом оцинкованном ящике, где хранились сухие продукты, полно всяких мешочков с мукой, крупой и макаронами, отец выразил свое неудовольствие, сказав что-то вроде: чтобы я больше не видел подобных запасов! Мама не стала ему возражать и продолжала делать небольшие запасы, которые потом на какое-то время отдалили голод. Но, несмотря на жесткую экономию, наши продуктовые запасы подходили к концу. По слухам нам было известно, что в Гатчине есть толкучка, на которой можно обменять вещи на продукты. Кроме мамы, идти было некому, но и оставить нас она не могла.