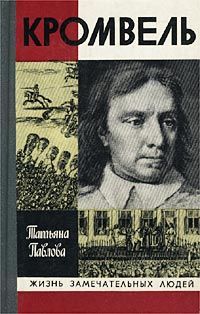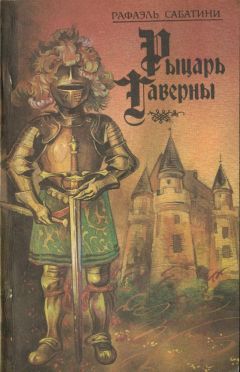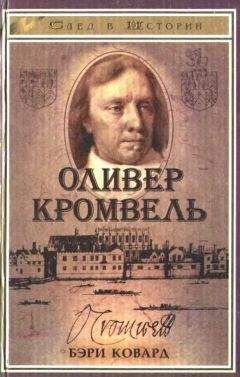Микаэл Таривердиев - Я просто живу
Прошло минут двадцать. Звонок в дверь. Входят два мальчика, вполне интеллигентного вида, показывают комитетские книжки:
— Здравствуйте.
— Здравствуйте.
— Вы поймите, мы в курсе дела, мы знаем, что с вами происходит. Мы не хотели вмешиваться. Но вы сейчас готовы сделать шаг, последствия которого должны понимать.
— Я все понимаю. А что мне делать? Мне не оставляют другого выхода.
— Вы хотите связаться с Леем? Мы попробуем вам помочь. Не надо ездить в посольство, это же все будет в вашем досье.
Вот так мы поговорили, и они уехали. Тут объявляется Отар Тенеишвили — он долгие годы сидел в Париже представителем Совэкспортфильма.
— Микаэл, я найду Лея, я с ним знаком.
И в течение трех дней Лей нашелся. Прислал телеграмму. Он возмущен тем, что его оклеветали. Он счел это провокацией: никаких телеграмм он, конечно, не писал, так же как никто никуда не звонил из посольства Франции.
Когда стало ясно, что телеграмма была фальшивкой, тот же Отар подключил к этому делу Петровку, 38. Люди из МУРа забрали телеграмму из Союза и выяснили. Кто-то пошел на Центральный телеграф, прямо около Союза композиторов, взял международный бланк, напечатал текст на латинской пишущей машинке, на простых листках бумаги, вырезал их, наклеил и принес в Союз. Стали спрашивать, кто получал телеграмму, кто за нее расписывался, как она оказалась на столе в иностранной комиссии, кто ее сразу перекинул Хренникову, кто ее принес? Никто не знал.
Сейчас это кажется смешным. Но если бы вы знали, как это было унизительно! Мне, которому всегда говорили — моя музыка может быть плохая или хорошая — но что у меня есть свой стиль, что моя музыка узнаваема мгновенно, мне нужно отмываться, доказывать, что я не украл! А с каким удовольствием участвовали в этой истории мои коллеги! Как им было приятно! Более того, с тех пор очень долгое время на концертах в разных концах страны меня спрашивали: что это за история, была она или нет. Помню этот восторг: украл или не украл. И я перестал доверять им всем. В том числе и публике. Когда раньше я выходил на сцену, я всегда любил зал, где бы и какой бы он ни был. А теперь перестал его любить. Еще какие-то годы я выступал с концертами, выходил на сцену. Но вот это я всегда помнил. Помнил то любопытство, с которым смаковали подробности сплетен. Музыка интересовала меньше. Скандал — больше. Вот такая история. С тех пор не люблю публику.
Говорят, что это сделал Никита Богословский. Вообще похоже. Но недоказуемо. Все это — начало семидесятых. Другое время, другие настроения. Меняются друзья. Общаемся все меньше, скорее только тогда, когда соприкасаемся по работе, или на вечерах, концертах друзей…
Уезжает Миша Калик. Это был грустный момент. Он закончил снимать фильм «Цена» по Артуру Миллеру. Принял решение и через полгода уехал. Приняв решение, он сразу стал учить иврит. Я помню последний вечер, когда мы собрались у него. 14 ноября 1971 года. Да, было грустно. Но все же не так, как я это воспринимаю сейчас. Потому что все мы были молоды. Нам казалось, что впереди нас ждет только радость… Какие проблемы? Хотя время было такое, что мы понимали: расстаемся. Может быть, навсегда. Но понимали это головой. А сердцем не верили. Ну как ребенок, который не понимает, что он умрет. Потому что это так далеко по его ощущению. Ощущению ребенка. Или молодого человека. Так далека старость! Так далека смерть, что просто смешно! Вот такое и у нас было ощущение.
Миша был единственным человеком, мотивы отъезда которого мне были понятны. Понятны и благородны. Он уезжал не за красивой жизнью. У него была прекрасная квартира. (Мы жили в одном доме, который строил тогда еще инженер-строитель, наш приятель Изя Сосланд. Так как мы с Мишей помогли осуществиться его мечте — поступить на Высшие режиссерские курсы, на второго режиссера, а потом писали за него курсовые, Изя даже сделал камин в Мишиной квартире.). Но он сказал: «Моя страна воюет. Это родина моих предков. Я должен быть там, потому что воюет моя страна. И мои дети тоже должны быть там». И это был его основной мотив. Кстати, я убежден, что все, кто тогда уезжал, вот как они жили здесь, так они жили и там. Ну, за исключением несколько иных жизненных условий. Кто тут был серым, приспособленцем, делал то, что хотела партия и правительство, приезжая в Израиль, делал то, что хотело уже теперь другое правительство. Чего ждали там от него, то он там и делал. Они продавали себя здесь, они так же стали продавать себя там. Кто бездельничал здесь и снимал в четыре года одну картину, а остальное время сидел в Доме кино и лясы точил, тот так же существовал и там. Кто качал права, требовал справедливости здесь, тот же Миша Калик, который был нелюбим за это властями — а какие власти любят, когда ты качаешь права, таких властей нет, будь то хоть в Америке, — он будет делать то же самое везде.
Как только Калик приехал в Израиль, он стал и там качать права. С правительством, министерством культуры. Он требовал создания настоящей студии — тогда в Израиле не было серьезного кинематографа. Он надоел всем. Его не любят официальные власти. Как не любили здесь, так же не любят и там. И он так же не стал ни к чему приспосабливаться, ни к чему, считая, что главное — независимость. И был прав. Не наверное, а наверняка прав.
Много лет спустя, в восемьдесят четвертом году, я приехал в Западный Берлин, где у меня был органный концерт с немецким органистом. И встретил там нашего общего приятеля, Игоря Кардонского. Он жил там как эмигрант. А эмигрантам там было очень хорошо. Ему дали двухкомнатную квартиру. Он получал какие-то деньги, вполне солидные, чтобы существовать спокойно, ездить в Париж. Один раз в году, но ездить. И вот он мне говорит:
— Хочешь позвонить Мише Калику в Иерусалим?
— Да, конечно, да, но… — Денег у меня не было, и я смутился.
— Давай, пошли в другую комнату, позвоним.
Набираем номер. Подходит Сусанна, жена Миши:
— Ой, Мика?! — То да се.
— А где Миша?
— А Миша у бассейна.
— Позови его, а мы вам перезвоним.
— Да не надо перезванивать, — говорит Игорь.
— Слушай, у тебя тут набежит. Я же за твои деньги волнуюсь. Телефон-то твой.
— Да не думай ты об этом.
Как не думать, он небогатый человек, я это знаю.
Ну, а потом подошел Миша.
— Ура, ура, ура!
Наговорили сорок минут. А когда закончили, я спрашиваю Игоря:
— Ты что, обалдел?
— Да нет, тут наши ребята-евреи нашли способ, как обходить компьютер. Мы звоним бесплатно, и счет нам не приходит.
— Ну, — говорю я, — как вы совками были, так ими и остались.
С Мишей мы разговаривали впервые через тринадцать лет полного молчания. Ося, его сын, уже служил в армии. Мой сын, Карен, заканчивал Рязанское военное училище и через несколько месяцев попал в Афганистан. Уехал Миша в семьдесят первом. А это было в восемьдесят четвертом. Впервые же он приехал в Москву летом восемьдесят девятого. А 14 ноября 1991 года, ровно через двадцать лет после его отъезда, день в день, в Доме кино состоялась премьера его нового автобиографического фильма «И возвращается ветер», его совершенно необычных и грандиозных киномемуаров. Трагическая лента о судьбах мальчиков, о судьбах нашего поколения. Но это было позже. А тогда нам казалось, впереди нас ждет только радость.