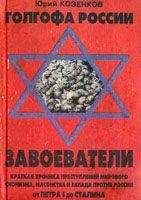Томас Манн - Путь на Волшебную гору
Это звучит омерзительно. Так писать нельзя. Так не смеет выражать свои мысли человек, принадлежащий к нации, которая знает немало высочайших взлетов в истории своего культурного развития, даже когда речь идет о самых прозаических, о самых низменных материях. Это просто позор. Разумеется, вопросы национальной экономики не могут служить темой лирических излияний, но известная взаимосвязь практического с совершенным, иначе говоря, с прекрасным, есть непременное условие человеческого достоинства — всякого человеческого достоинства, даже послевеймарского, а литературное убожество вроде того, что я здесь цитировал, ниже этого достоинства, — к сожалению, мы этого не ощущаем.
Или вот еще пример: некий немецкий государь был избран почетным членом Академии наук своего государства. Он выступил с благодарственной речью, в которой сказал следующее:
«Собственно говоря, я не знаю, как это так получилось, что меня избрали почетным членом Академии; но я очень рад, что меня избрали, хотя я нисколько не претендую ни на какого ученого, ибо я не так уж много написал, хотя, не стану отрицать, ко многим явлениям, которые существуют в сфере человеческих интересов, я проявляю самый живой интерес. Я представляю собой в этом смысле большое исключение по сравнению с моей сестрой, которая, хотя и писательница…» — и тому подобное.
Я повторяю еще раз — стыд и позор. Я обвиняю не титулованного члена Академии наук, но прессу, которая, не дав себе труда привести в божеский вид эту несусветную болтовню и размножив ее в тысячах экземпляров, действовала на руку врагам монархии. Мне кажется, что ни в какой другой стране, даже в самой захудалой африканской республике, подобная литературная беспомощность в выступлениях официальных лиц была бы совершенно невозможна. И в то же время нельзя не признать, что народ, который принимает подобные торжественные речи, не поморщившись и не выражая ни малейших признаков неудовольствия, отнюдь не лишен вкуса к удачно найденному слову: он приходит в восторг, когда сталкивается с ним, он радостно смеется, если оно может принести пользу его делу, он с нежностью и гордостью отмечает день, когда оно родилось в его среде.
На днях в газетах жирным шрифтом было напечатано несколько фраз, которыми в ходе переговоров в Спа обменялись господин Ллойд Джордж и германский министр доктор Симоне. При обсуждении вопроса о разоружении англичанин по злобе или высокомерной бесцеремонности позволил себе сказать, что уважающее себя правительство должно в конце концов быть хозяином своей страны. Симоне ответил:
«Господин председатель, вы управляете великой процветающей державой — победительницей, но тем не менее я слышал, что не так давно вам не без труда удалось заставить повстанцев сложить оружие, которым они пользовались для нападения на регулярные войска. Собственно говоря, я так и не знаю, добились ли вы этого в конце концов. Я рассчитываю, что вы проявите хоть немного сочувствия к правительству, лишенному реальной власти, к правительству, которому выпало на долю управлять побежденной страной, ввергнутой в хаос».
Мы, немцы, долго восхищались этими словами, мы упивались ими, и действительно они были для нас словно бальзам. В них есть страстность и острота, отточенность, ирония и блеск, в них есть драматические нотки, они посрамляют могущественных, — слово несет поверженным отраду и душевное удовлетворение. Нас восхищало самообладание, с которым Симоне парировал выпад противника. Впрочем, я не думаю, что это была импровизация. Господин Ллойд Джордж и до этого не особенно стеснялся в выражениях, а фразы, подобные этим, не бывают импровизацией; страсть рождает и формирует их в одиночестве, пока безмятежно спит ленивая, безразличная посредственность. Страсть, не зная покоя, шлифует их и придает им тот блеск, остроту и достоинство, перед которыми насилие, пускай хоть на мгновение, не может не потупить взор.
Что же я хочу этим сказать? Я хочу сказать, что мысль должна быть выражена таким образом, как если бы говорящий хотел заставить насилие потупить взор перед нею. Ведь в самом деле, все, что сказано удачно, именно с этим намерением и сказано.
В основе стремления выражать свои мысли подобным образом лежит любовь. Любовь к делу, страсть к делу, одержимость — вот источник всякого внешнего блеска, поэтому деловитость — вот то, из чего должен исходить педагог, стремящийся обучить хорошему слогу подрастающее поколение народа, чуждого всякой риторики. Необходимо преодолеть национальный предрассудок, будто деловитость и красота несовместимы, предрассудок, возникший из ошибочного толкования обоих понятий. Ибо деловитость, это не равнодушие, а красота — отнюдь не риторическая напыщенность. Станет ли кто‑нибудь утверждать, что невыразительная, корявая речь, банальные, затасканные выражения могут способствовать успеху дела, предпринятого говорившим? Спросите об этом детей. Им следует внушить, что деловитость вовсе не безобразна, что, напротив, предельная деловитость придает ту яркую выразительность, ту убеждающую прозрачность, которые родятся из страсти к делу и из глубокого понимания дела. Им необходимо разъяснить, что красота — не роскошь и не приправа, а естественная, исконная форма всякой мысли, которая заслуживает быть воплощенной в слове. Скажите им, что голова, в которой родятся мысли, подобные тем, какие излагали профессор и государь, это не голова, а кочан капусты.
Я вижу, мой ответ носит несколько отвлеченный и сентенциозный характер, а ведь Вы хотели получить от меня практические советы и указания относительно «специальных стилистических упражнений, которые, по — вашему, должны были бы заменить традиционное школьное сочинение. Однако я считаю, что давать узкопрактические советы куда менее важно, чем определить основную идею, которая должна объединять учителя и ученика пусть не до начала, но в ходе их совместной работы, чтобы эта работа принесла необходимый успех. Я утверждаю тождество деловитого и прекрасного, и пафос этого утверждения не иссякнет, пока идея воспитания не утратит свою жизненную силу, пока не погребут ее надвигающиеся мертвые пески — пустыня массового варварства и утилитаризма.
1920
Русская антология
Посетитель ушел, и вот опять один в комнате, сидишь и думаешь, как постепенно устанавливает жизнь связи, реальные связи между нами и сферами действительности, которым когда‑то, в хрупкую раннюю пору, мы склонны были приписывать лишь духовное и мифическое бытие. Жизнь — это осуществление, — это реализация во всех смыслах, и этим‑то она фантастична; ибо мечтателю действительность видится более мечтательной, чем любая мечта, и льстит ему глубже. Но и жизнь, то есть претворение в реальность, нередко кажется нам каким‑то предательством, — предательством и изменой нашей не загрязненной реальностью юности. Да, мы были юны — хрупки, чисты, свободны, насмешливы, робки, и мы не верили, что реальность может хоть в каком‑либо отношении нам «подходить». И все‑таки жизнь преподносила нам потом свои реальности, преподносила одну за другой — перебираешь их в памяти и головой качаешь. Рядом с нами совершались поступки, поступки наших близких, суровые, как сама жизнь, нешуточные, ужасающие в своей окончательности, и мы возмущались ими, воспринимая их как измену общей нашей нереальности прежних времен. А между тем жаловаться мы были не вправе, ведь и мы в большой мере уже претворились в реальность — из‑за своего труда, своего положения, домашнего очага, брака, детей и как там еще именуются всякие дела жизни, будь то суровые или человечно — уютные; и хотя мы втайне хранили некоторую верность свободе и отрешенности, хотя в глубине души у нас оставалась доля насмешливости и робости юных лет, совершать такие нешуточные поступки мы и сами учились. Фантастически неожиданная действительность, мы не закрываем глаза на твой смертельно суровый нрав! Ибо, какое бы ты ни принимала обличье, бледное от страсти или человечно — уютное, всем твоим ликам, вызывают ли они у нас недоверчивое веселье или, наоборот, потрясенье, свойственно нечто страшное, нечто священно грозное, от всех от них веет родством с тем, последним в их череде, который в конце концов тоже нам «подойдет», — несомненным семейным сходством со смертью. Да, и до реальных почестей смерти тоже мы в итоге дойдем, кто бы подумал, и любая действительность, бледная или веселая, носит ее черты.