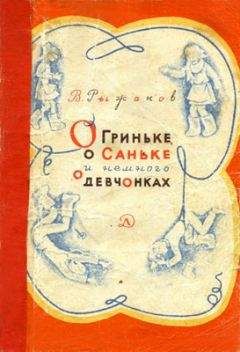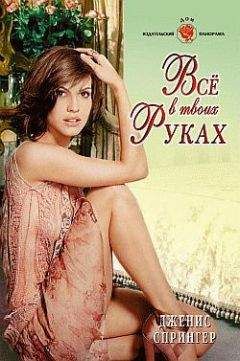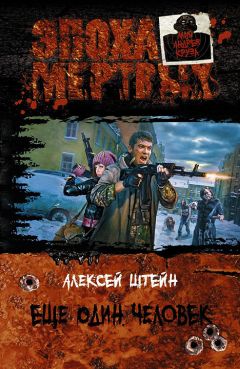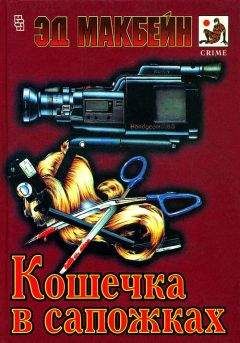Варлаам Рыжаков - Скупые годы
К Витьке в этот день я решил не ходить. Но Витька прибежал ко мне сам. Он был переполнен весельем и радостью, сгреб меня в охапку, тискал и что-то бормотал, а я думал о своем отце, и на глаза у меня навертывались слезы. Витька заметил это, разгадал мои мысли и сразу сник.
- Ну ладно, Вовка, что ты, - неуклюже выронил он и виновато потупился.
А вечером у Витьки была небольшая пирушка.
Я обещал прийти пораньше, но не смог. Мать почему-то задержалась на работе, и мне пришлось заниматься по хозяйству; пока я загонял скотину, пока поил теленка, пока отводил к бабушке сестренку, время ушло. К Витьке я прибежал с опозданием.
В кухне, куда я вошел, никого не было. Все сидели в передней комнате за столом и шумно галдели. Мой приход остался никем не замеченным. Я растерянно потоптался у порога, наклонился к рыжему коту, лениво подошедшему к моим ногам, погладил его, огляделся и неожиданно почувствовал тупую тоску. Руки мои задрожали. В горле что-то царапнуло и защекотало. Во рту стало неприятно горько.
- А сейчас, ребята, - весело проговорил в передней комнате Витькин отец, - я предлагаю выпить за наших первых фронтовых помощников - за вас.
- Ура...а...а...а! - закричали ребята.
На кухню вышла Витькина мать.
- Ты что тут, Владимир? Проходи.
Взяла со стола тарелку и ушла.
Я проводил ее взглядом и вдруг особенно остро понял всю ледяную глубину своего сиротства, повернулся и выскочил на улицу.
Очнулся я за деревней, на бревнах.
Светила тусклая луна. От ее неживого синеватого света мне сделалось еще тяжелей, еще тоскливей.
Перед глазами всплывало то сияющее лицо Витьки, то грустный, заплаканный взгляд матери. "Ничего, Вова, проживем", - успокаивает она.
Но сколько муки, сколько горечи я слышу в этих словах.
Мама. Как бы она была счастлива, если б вернулся отец...
Я закрыл глаза.
Вот он дома. Мы сидим с ним рядом за столом, а она с улыбкой подает обед. В глазах у нее столько радости, столько тепла и ласки, что я невольно улыбаюсь. А сестренка. Она сидит у отца на коленях, прильнула головой к его груди и о чем-то без умолку весело болтает. Отец поглаживает ее волосы, смотрит на меня и неторопливо рассказывает о войне. Говорит он долго-долго, а мне все хочется глядеть на него и слушать. А на столе приветливо шумит самовар.
А потом... а потом. Утром мы идем с отцом на колхозный двор.
Он туго подпоясан широким солдатским ремнем. Шагает он твердо, уверенно.
А я иду рядом, и мне так хорошо, так приятно чувствовать подле себя его силу и мужество. Я горжусь им и стараюсь подражать ему.
Я, как равный равному, рассказываю ему про нашу колхозную жизнь.
Он слушает молча, иногда задумчиво, иногда с улыбкой, а когда я начинаю жаловаться ему, он хлопает меня по плечу и ласково останавливает: "Ты же сильный, а плачешь".
Мне делается стыдно. Я кусаю себе губы и не мигая гляжу вдаль.
Вдруг возле меня кто-то тяжело вздохнул. Вздрогнув, я обернулся.
Рядом со мной сидела Люська.
Она протянула мне руку, спросила:
- Тяжело?
Я кивнул головой и закрыл ладонями лицо.
- Ага, вот вы где?! - выскочив из-за бревен, радостно вскрикнул Витька, и не успели мы опомниться, как были уже у него в доме.
Витька посадил меня между своим отцом и собой и хлопнул по моей спине.
- Теперь не убежишь.
Я не ответил ему. Я украдкой разглядывал его отца. Он был широкоплечий, крепкий. Военная гимнастерка на нем была хорошо отглажена. И весь он был какой-то чистый, опрятный, подтянутый, как нарисованный. Пахло от него чем-то приятным.
Дядя Коля (так звали Витькиного отца) заметил, что я наблюдаю за ним, подвинулся ко мне ближе, взял меня за руку повыше локтя и серьезно заговорил о жизни.
Мне это понравилось, и я рассказал ему о всех своих радостях и печалях, о колхозных делах.
- Ну а трудодень как? - спросил дядя Коля с мягкой, доброй улыбкой, но в его голосе я уловил еле заметную нотку беспокойства и смутился, но тут же оправился и твердо ответил:
- Пока плохо. Дают мало. Но мы и не спрашиваем большего. На то и война.
- Верно, верно, - заторопился дядя Коля. Верно мыслишь. Теперь все наладится. Вернутся фронтовики, в колхозе прибавится силы, трудодень станет крепким. Жизнь пойдет в гору.
Он помедлил.
- Ничего, Владимир, все будет так, как надо.
Я улыбнулся. Я верил ему.
Я и сам представлял будущую жизнь хорошей.
ГЛАВА 11
А жизнь, как нарочно, каждую мою радость отравляла горечью.
Возвращаясь от Витьки, мы с Люськой тихо брели вдоль спавшей улицы.
Звезды на высоком безоблачном небе начинали уже потухать. Прохладный сумрак с востока уползал на запад. Приближался рассвет.
Мы шли молча.
Вдруг Люська остановилась и тревожно дернула меня за рукав.
- Посмотри. У вас огонь.
Я обернулся в сторону своего дома и застыл. Сквозь белые занавески окон пробивался тусклый красноватый свет. Это был верный признак того, что в доме что-то случилось.
В деревне летом никто не зажигает лампу, а если зажгли - в семье или радость, или несчастье. Радости я не ждал, а несчастье... Кто от него убережется?!
Подгоняемый тоскливым предчувствием, я быстро перебежал дорогу, впрыгнул на завалинку и прислонился к стеклу.
На столе мрачно коптила лампадка. В комнате было чадно и тихо-тихо.
Мать лежала на кровати вверх лицом. Правая рука ее как плеть свисала вниз и почти касалась полусогнутыми пальцами пола, а левая была откинута на подушку и прижимала к виску скомканное полотенце. Из едва приоткрытого рта матери вылетали чуть слышные шипящие звуки.
- Она пить, пить просит, - испуганно шепнула Люська и, соскочив с завалинки, метнулась в комнату. Дрожащей рукой она торопливо налила в стакан кипяченой воды и осторожно поднесла его к пересохшим губам матери. Мать с жадностью отпила несколько глотков и открыла глаза. Взгляд у нее был нехороший. Дыхание тяжелое.
- Это ты, Вова? - глухо, с расстановкой проговорила она. - А у меня опять голова разболелась. Поешь - там в печи каша, молоко под скамьей. А со мной пройдет, не бойся, к утру я встану.
Я отвернулся.
Я понимал, что мать говорит неправду. Она и раньше часто жаловалась на головные боли, но сегодня я видел, с каким трудом она выговаривает каждое слово, и чувствовал, что она заболела серьезно. Я переминался с ноги на ногу и, как бы ища поддержки, растерянно оглядывался по сторонам.
А за окном уже совсем рассвело.
Где-то протяжно скрипнули ворота.
- Вон петухи поют, - вяло произнесла мать и забылась.
А утром я отвез ее в соседнюю деревню в больницу.
Врачи определили у нее гипертонию, и обратно я возвращался один. На рыдване рядом со мной вздрагивал и покачивался небольшой узелок белья. На душе у меня было пусто, тяжело.