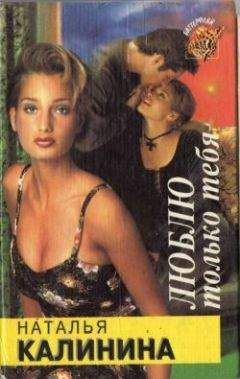Людмила Улицкая - Поэтка. Книга о памяти. Наталья Горбаневская
Люби своего итальянца, но чтоб и в голову не пришло замуж. У меня на дне рождения тоже был итальянец, но, кажется, липовый.
Когда приеду, я постараюсь что-нибудь тебе рассказать. Если не позабудется к тому времени. Опять Пушкин: Чего нам ждать? Тоска, тоска. И он же: Куда ж нам плыть?
…Хотела бы я никогда не писать стихов и вообще много не знать и не уметь. И всё то, что я тысячу раз предсказываю себе в стихах, – зачем я тысячу раз пытаюсь это обойти?..»
Письмо от 6/7 июня 1963 года
«Привет, милая! Мое письмо, невеселое и глупое, разошлось с твоим, но теперь я, как ты просишь, напишу хорошее. К моей любовной истории вернемся по приезде. Сейчас скажу тебе одно, она кончилась, я ее кончила, но вины моей нет (что поправка к предыдущему письму). Я, в общем-то, спокойна и даже легко застряла в городе еще. Тем более что приехал Непомнящий, а ты себе не представляешь, какое это удовольствие – мне принимать москвичей в Ленинграде. Вообще, это такой город, Люська, я так им счастлива, что всё перед этим меркнет. Я написала о нем еще стихи.
Вот моя Александрова слобода – Ленинград,
Вот опала моя на Москву,
Вот свобода, награда моя из наград,
Плесканье волны о скалу.
Прокричи, моя радость, обо мне прокричи!
Я твой мученик, царь и герой,
На канале Круштейна кружатся грачи,
Расставание не за горой.
В который раз пред тобой обалдеть,
Не связать прощальных речей,
Пора мне княжить и володеть
В проклятой столице своей.
Я не знаю, хороши ли эти стихи, но это тот случай, когда мне хочется в любви объясниться стихами. Хотя кто напишет о нем что-либо существенное после Мандельштама?
Люська, я уезжаю в Таллин числа 10–11-го. По крайней мере думаю, что уезжаю. Пиши мне, Таллин, Техника, 16, кв. 4. Бондарь Наташе (для меня)».
Такая особая музыка была заложена в Наташину судьбу – тема плоти и страсти, женской любви, у нее постоянно сопряжена с наказанием, точнее, с казнью. Мне кажется, здесь срабатывает христианское сознание, глубоко укорененная мысль, что телесная любовь грешна, наказуема, и мотив этот постоянно звучит в Наташиных стихах. Она как будто изначально не давала себе права любить и быть любимой. Счастье ее почти без остатка умещалось в ее стихах.
Л. У.Мой ненаписанный дневник
похож бы был на кучу книг,
на кучу не моих историй,
немых любовных траекторий,
на выцветающий петит
давно умолкших разговоров,
где горничная кипятит
холодный чай для жарких споров,
где сам герой похож на тень
холодную в горячий день,
а героиня либо в спячке,
либо в классической горячке,
и это я была бы ею,
теряла бы в кустах камею,
роняла письма и платки…
Но век не тот, и время сжалось,
бумага чистая слежалась,
по ней летящая строка
не прочертила завитка,
и, пролистав бумаги десть,
вы не найдете, что прочесть, —
бело и пусто. Но оно
и к лучшему…
Мой ненаписанный дневник
убережет мои обманы,
чтоб любопытный не проник
в мои небывшие романы.
А я откуда?
О родословной Наташи уже было сказано. Но вопрос происхождения имеет еще одно измерение, нематериальное. Здесь рассматривается уже не кровное родство, а иного рода генетика: вера, идеалы, духовные корни. Словом, материи высокие. И высокие ноты просто сами собой напрашиваются. Но пафос снимает сама Наташа. В 1959 году, еще в самом начале стихотворчества, она пишет еще довольно робкое стихотворение… Но уже пророческое:
Когда смолкают короли,
пред занавес выходит шут,
он вертит пестрой головой,
и он умнее всех.
Когда смолкают короли,
суфлер тетрадку закрывает,
где их священный бред
дословно занесен заранее.
Пред занавес выходит шут,
и он умнее всех,
и вы хохочете ужасно,
чтоб заглушить его.
Давно умолкли короли,
и за кулисами короны картонные
на полочках лежат,
и шут пошел к себе домой,
он вертит пестрой головой,
и он умнее всех.
А в 1965-м Наташа пишет стихотворение, которое можно назвать программным. Почти случайный шут занимает свое важное место, и шутовство автора – не кривлянье и не подделка, не желание рассмешить честную компанию, – а высокое предназначение, собственное видение добра и зла, входящее в конфликт с мировоззрением большинства. Шут всегда переворачивает привычную иерархию, вызывает резкую реакцию – шок, смех.
А я откуда? Из анекдота,
из водевиля, из мелодрамы,
и я не некто, и я не кто-то,
не из машины, не из программы,
не из модели. Я из трамвая,
из подворотни, из-под забора,
и порастите вы все травою,
весь этот мир – не моя забота.
А я откуда? Из анекдота.
А ты откуда? Из анекдота.
А все откуда? А всё оттуда,
из анекдота, из анекдота.
Таким образом, все оказалось расставленным по своим местам: небожители занимают положенный им Олимп, увертливые совписы заседают на Поварской, в Союзе советских писателей, а Наташа занимает вольное, самою ею выбранное пространство анекдота, почти фольклора, принимает роль шута-скомороха:
…Ты, Боже, Сыне Человечий,
коли решил на эти плечи
ярмо с бубенчиком надеть,
не отпусти меня свободной,
не попусти в ночи холодной
душе моей заледенеть.
И логика здесь безупречна – скоморох попадает в конце концов на площадь. Все поэтико-исторические видения поэта Натальи Горбаневской сбываются, хотя и в усеченном, причесанном под XX век виде: сбывается Красная площадь, казнь, суд, сбывается тюрьма, сума, изгнание… И надо всем этим витает тень юродства, особой, странной разновидности святости. Все приметы совпали, картина проясняется: кристаллическая честность, принятие на себя чужой вины, святая бедность в сочетании с абсолютной щедростью, совершенное нестяжательство – никакого, никакого имущества, если не считать книг и словарей, у нее не было. И последнее, удивительное, посмертное уже обстоятельство – даже могила, в которую она легла, была ей подарена. Наташка бы долго смеялась, если бы я произнесла вслух то слово, которое приходит в голову. Я и не произнесу. Да и кто доподлинно знает, как выглядят праведники двадцатого века?