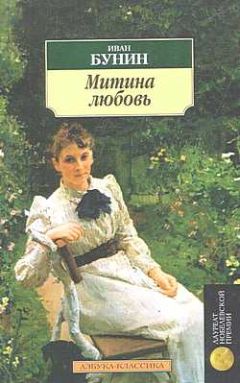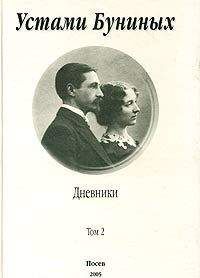«Чувствую себя очень зыбко…» - Бунин Иван Алексеевич
Думаю, что читатель “Руля” не посетует на то, что появляется наконец в печати один из подлинных документов страшной и зловредной отсталости от века, проявленной в Париже 16 февраля (а 5 апреля имеющей быть продолженной), и не сочтет за личную полемику мою приписку к этому документу: дело имеет все-таки некоторый общий интерес. И тем более имеет, что в московской “Правде” от 16 марта уже появилась статья, почти слово в слово совпадающая со всем тем, что писалось о нас в “Последних новостях”. Московская “Правда” тоже страстно жаждет нашей смерти, моей особенно, для видимости беспристрастия тоже не скупясь в некрологах на похвалы. Она сперва сообщила, что я на смертном одре в Ницце, потом похоронила меня (а вместе со мною Мережковского и Шмелева) по способу “Последних новостей” – морально. В “Правде” статья озаглавлена “Маскарад мертвецов”, и в статье этой есть такие строки:
“Просматривая печать белой эмиграции, кажется” – какой прекрасный русский язык! – “кажется, что попадаешь на маскарад мертвых…”
“Бунин, тот самый Бунин, новый рассказ которого был когда-то для читающей России подарком, позирует теперь под библейского Иоанна… выступает теперь в его черном плаще… как представитель и защитник своего разбитого революцией класса… Это особенно ярко сказывается в его последних произведениях – в рассказе «Несрочная весна» и в стихах в «Русской мысли»… Здесь он не только помещик, но помещик-мракобес, эпигон крепостничества… Он мечтает, как и другой старый белогвардеец, Мережковский, о крестовом походе на Москву… А Шмелев, приобщившийся к белому подвижничеству только в прошлом году, идет еще дальше: один из значительных предреволюционных писателей, он не крепостник, а народник… Для него «народ» кроток и безвинен, сахарная бонбоньерка, крылатый серафим… и он во всем обвиняет интеллигенцию и московский университет, недостаточно усмиренный в свое время романовскими жандармами…”
“Вообще выступление этих трех писателей, по сравнению с которым даже «Вехи» 1907 г. кажутся безвинной елочной хлопушкой, вызвало в эмиграции широкий отклик. Даже седенький профессор… назвал это выступление в своей парижской газете голосами из гроба…”
Инония и Китеж
К 50-летию со дня смерти гр. А.К. Толстого
Полвека со дня смерти гр. Алексея Константиновича Толстого.
Каждое воспоминание о каждом большом человеке прежней России очень больно теперь и наводит на страшные сопоставления того, что было и что есть. Но поминки о Толстом наводят на них особенно.
Вот я развернул книгу и читаю:
Что это такое? Это из баллады Толстого о Змее-Тугарине, это рожа певца, нахально появившегося на пиру киевского князя Владимира, рожа той “обдорской” Руси, которую он пророчит, которая должна, по его слову, заменить Русь киевскую. Мысль о том, “чтоб мы повернулись к Обдорам”, кажется князю и его богатырям так нелепа, что они только смеются:
Но “рожа” не унимается. Вам, говорит она, моя весть смешна и обидна? А все-таки будет так. Вот, например, для вас теперь честь, стыд, свобода суть самые бесценные сокровища:
И пророчество это, как известно, исполнилось: через долгую “обдорскую” кабалу, через долгое борение с нею пришлось пройти Руси. И кончилось ли это борение? Один великий приступ Русь “перемогла”. Но вот надвинулся новый и, быть может, еще более страшный. Далеко той, прежней роже, что бахвалилась на пиру в Киеве, до рожи нынешней, что бахвалится на кровавом пиру в Москве, где “бесценными сокровищами” объявлены уже не честь, не стыд, не свобода, а как раз наоборот – бесчестие, бесстыдство, коганский кнут, где “рожа” именуется уже солью земли, воплощением, идеалом “новой” России, ее будто бы единственно-настоящим ликом, – в противовес России прежней, России Толстых, – и именуется не просто, а с величайшей и даже мессианской гордостью: “Да, скифы мы с раскосыми глазами!” или, например, так:
Эти хвастливые вирши, – прибавьте к ним заборную орфографию, – случайно попавшие мне на глаза недавно и принадлежащие некоему “крестьянину” Есенину, далеко не случайны. Сколько пишется теперь подобных! И какая символическая фигура этот советский хулиган, и сколь многим теперешним “болванам”, возвещающим России “новую эру”, он именно чета, и сколь он прав, что тут действительно стоит роковой вопрос: под знаком старой или так называемой новой “эры” быть России и обязательно ли подлинный русский человек есть “обдор”, азиат, дикарь или нет? Теперь все больше входит в моду отвечать на этот вопрос, что да, обязательно. И московские “рожи”, не довольствуясь тем, что они и от рождения рожи, из кожи вон лезут, чтобы стать рожами сугубыми, архирожами. Посмотрите на всех этих Есениных, Бабелей, Сейфуллиных, Пильняков, Соболей, Ивановых, Эренбургов: ни одна из этих “рож” словечка в простоте не скажет, а все на самом что ни на есть руссейшем языке:
– Никла Ильинка монашенькой постной, прежняя дебелая, румяная, грудастая бабеха… (Соболь)
– По Макарью величайшей задницей та же рассаживалась московская дневная Ильинка… (Пильняк)
А некоторые умники в Берлине, в Париже, в Праге тают от умиления: “Ах, говорят они, ах, какой сочный, ядреный русский язык, какая истинно национальная Русь прет теперь из русского чернозема, и как жадно должны мы ловить свет именно оттуда, и какое обилие там, – только там! – таланта, жизни, молодости”.
Да, “страшная рожа” опять среди нас. Тщетно возмущаемся мы:
Толстой называл себя “певцом, державшим стяг во имя красоты”. Он был, как один из его любимейших образов, как Иоанн Дамаскин, “борец за честь икон, художества ограда”. На “рожу” он смотрел глазами древней христианской Руси: это воплощение всего басурманского, дьявольского, воплощение мерзости и безобразности (то есть того, что образа, устроения и гармонии не имеет), безобразности и мерзости не только внешней, но и внутренней. А Красота, Лик были для него воплощением Божеского, того, что творит, устрояет, обладает Искусством (покоряющим бесформенность).
“Красота, прекрасное, как справедливо сказал о Толстом Вл. С. Соловьев, была для него дорога и священна, как отблеск вечной Истины и Любви”, как нечто, идущее из самобытного мира вечных идей или первообразов. “Божество, говорит Соловьев, обладает полнотой совершенства. Человек, совершенствуясь, достигает его. Человек есть самостоятельная особь и, кроме того, часть всемирного целого. И он должен совершенствовать и самого себя, – личной любовью, – и содействовать совершенству целого, – патриотизмом, чувством солидарности с целым… В поэзии Толстого мотивы любви и патриотизма наиболее характерны… Патриотизм есть желание блага целому – народу, государству, отечеству… Но в чем именно благо отечества? Сам по себе патриотизм может быть источником и добра, и зла… Нужно еще патриотическое сознание, различающее истинное благо отечества от ложного. И та степень патриотического сознания, которая была у А.К. Толстого, до сих пор остается высшей… Со всей живостью поэтического представления и со всей энергией борца за идею Толстой славил свой идеал истинно русской, европейской и христианской монархии и громил ненавистный ему кошмар азиатского деспотизма… Начало истинного национального строя он находил в киевской эпохе нашей истории…