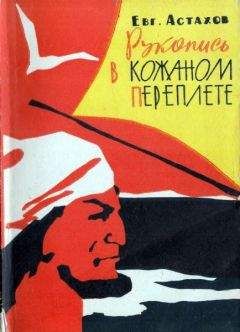Всеволод Иванов - Пустыня Тууб-Коя
- Допросили?
- Собираюсь, - ответил Омехин.
- Может препроводить ее при письме? Часть нежелательным возбуждена. Вы заметили, Алексей Петрович?
Омехин, уменьшая свой широкий рот, быстро спросил:
- Вы, кажется, товарищ Палейка, больше о ней заботитесь, чем... Да тут лавочка, дальше коробки с пудрой не двинется. Да... Разговаривать с ней нечего, я ее допрошу. Допрошу, - повторил Омехин.
Голоса не громкие, не дальше сжатых губ, короткого дыханья, но ухо пленной чутко. Она всем телом прижалась к стене мазанки. И так горячо, так охвачено пламенем ее тело. Серая шершавая стена принимает, впитывает ее жар - она совсем теплая. Очень теплая. Совершенно неудивительно будет, если переданное ей тепло коснется, дойдет до лиц близко стоящих мужчин. Щеки одного вспыхнули, за ними пылают уши.
- Я вам не сопутствую, хотя как руководителю военной части все сообщенные ею сведения, мне необходимо было бы знать тоже из первых рук.
Палейка вдруг круто, по-военному, повернулся, козырнул молча и пошел вдоль палаток.
Омехин крикнул уже вслед ему:
- Обождите, Максим... Надо выяснить, чего недоразуметь.
- Верите ли... бродят...
Последние слова он бормотал на ходу, далеко откидывая коленями длинные полы шинели.
- В лесу надо поговорить, - через плечо сказал ему Палейка.
- В лесу?
- В лесу. Здесь неудобно.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Шинель Омехин сбросил на куст саксаула. Голубая нездешняя птичка выскочила из-под его куста.
"Хорошее место для могилы" - подумал он.
Палейка, не по-солдатски, широко размахивая руками шел далеко впереди.
Ведь надумает еще пойти не до саксаулов, а до гор. Не до гор, а до скал Каги, до них пять верст по меньшей мере. Собачий перегон, так называются пять верст.
Костры чадили в долине. Партизанские кони рвали траву, как сучья. Горы, как палатки, в которых спит смерть.
Одни ледники разорвали желтое небо.
Ледники холодом своим смеются над пустыней.
К горам что ли он идет?
Не дойдешь, брат, в такой тоске.
... Все мы не доходим. Было другое лето в Петербурге, где нет гор и где море за ровными скалами, построенными людьми. Все же и там дует ветер пустыни, свивает наши полы и сушит, без того сухие, губы. Птица у меня на родине, в Лебяжье, выводила из камышей к чистой воде желтых птенцов. Я не видал их. Об этом напомнили мне книги. Петербургские тропы ровные и прямые и я все-таки недалеко ушел со своей тоской!..
Палейка обессиленный повалился грудью на землю.
Саксаул острыми спицами впился в тонкое сукно, разрезая приникшее к земле тело. "Теплый дождь", - подумал с неудовольствием кустарник.
Запыхавшийся Омехин остановился подле. Губы у него твердые как трава саксаула. Будто всю жизнь Омехин ест корки.
- "Вы, я вижу, Максим, на самом деле, а" - хотел сказать он и, как всегда при речах, потер было о земь и согнул правую ступню.
- Бывает, - только и промолвил он.
И так стало тихо, что от соседнего кустарника, вершка четыре от ствола, отскочила вдруг голубенькая мышка. "Юхтач" называется она, что значит жадный. Задумчив и величав ее чуть загнутый нос.
Палейка приподнялся на локтях, вынул неслышно наган. Рот у него открылся: один зуб у него, оказывается, перерос другие. И главное - желтее всех.
Он повернул потную голову к Омехину и сказал:
- Пали.
Омехин хотел отступить, но Палейка приподнял на глаз мушку и Омехин прошептал:
- Бог с тобой, Максим Семеныч, с чего я в тебя палить буду?
- Не в меня, в мышь. Кто попадет, тому она и достанется. Пали, ради бога.
- Спятил! Да никогда я в мышей не стрелял из револьвера.
- Пали! Считаю до двух. Кто убьет, тому - баба. Система у нас разная. Пали, тебе говорят.
Мышь насторожилась, хвост у нее поднялся, она вздохнула, собралась бежать... и вдруг, не чуя себя, Омехин шепнул:
- Считай.
ГЛАВА ПЯТАЯ.
Женщина лежала на лавке подложив папаху под голову. Когда Палейка вскочил в теплушку и поспешно задвинул за собой дверь, она быстро поднялась и села, держась обеими руками за кромку плахи.
- Я закричу. Что вам?..
Не отвечая, Палейка чиркнул спичку и зажег небольшой огарок. Оглянулся куда бы его поставить. Она прищурилась, словно приберегая глаза для разбега, быстро согнула в локте его руку и сказала.
- Стойте так.
Осторожно достала из кармана кофточки круглое зеркальце и пудреницу из бокового кармана юбки и открыв голубую коробочку, не глядя на Палейка неподвижно светившего ей, стала пудриться.
Когда нос стал белее лица, она губной помадой тронула чуть, чуть губы. Улыбнулась тягостно-легко.
- Теперь хорошо.
Спрятав пудру и помаду, взглянула на Палейка. Зеркальце осталось у ней в руках. Вытянулась и еще притянув к носу зеркальце тронула рукой грудь Палейка.
- Отойдите дальше.
Палейка, повинуясь совсем не ее руке, задевшей словно пчела, отступил назад.
В зеркале брызнулась отсветом свеча, ему захотелось загасить ее - но губы ссохлись.
Она опять села и положила зеркальце на колени.
- Что же, вы опять молчать будете, как прошлый раз. Вам чего собственно, от меня нужно? Я ведь знаю, куда вы меня утром отправите и ничего вам не скажу. Я и ничего не знаю.
Она ненадолго задумалась. Опять, словно водяной паучок скользнул на ее щеки. У паучка смешное имя - "мзя".
- Я хотела после себя оставить...
- Мне?
- Совсем не вам, а вообще. Я думаю, что мои косы на это годятся. Пускай они останутся жить... я их люблю!
Она сложила на груди обе косы вместе, играя пушистыми концами.
"Хитра", - со злостью подумал Палейка, ощущая теснящуюся в носу влагу растроганности.
И он сказал басом:
- Серьезнее вы ни о чем не попросите? Может, какие другие вещи есть?
- Вот смешно! Это очень серьезно...
- Неужели на меня нельзя расчитывать в смысле легкой, предположим, помощи? Мы, в крайнем случае, где-нибудь и попа наскребем.
- Помощь? Фи! И притом... надо же понимать. Уйдите. Вы мне больше не нужны. Спасибо за огарок. Да вот еще что, разрешите мне причесаться к завтрему, а то завтра я не успею. Подержите еще огарок.
Женщина спокойно, таким же заученным жестом, как ее слова, стала распускать волосы.
Палейка быстро поставил огарок прямо на пол. Его большая неуклюжая тень метнулась по стене, сломляясь у потолка. Голова на потолке превратилась в чурбан. Он сел рядом с женщиной и не давая ей опомниться поймал ее руки.
- В помощи? Да. Фу, гадость какая, только подумать... Уходите! И вы еще прикасались ко мне: у вас руки грязные, смотрите, ногти обломанные, короткие, желтые... Как окурки...
Она с отвращением вытерла свои пухлые руки о низ черкески. Вдруг зеркальце соскользнуло с ее колен, упало на пол и разбилось пополам.