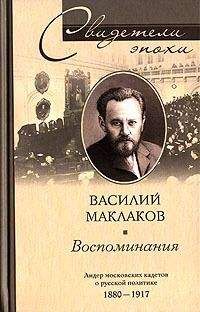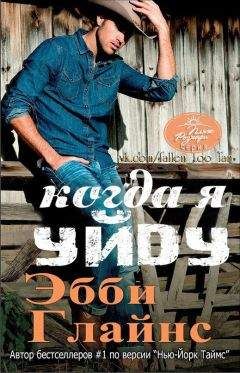Георгий Адамович - Василий Алексеевич Маклаков. Политик, юрист, человек
Маклаков был натурой слишком широкой, интересы его были слишком разносторонни, чтобы и на посту посла или — позднее — главы эмигрантского «офиса» замкнуться в сфере повседневной работы. Он вынес из России привычку к постоянным дружеским или деловым сношениям с «общественностью» — слово непереводимое, специфически русское, которому суждено, может быть, наподобие слова «интеллигенция», войти в иностранные языки (препятствием окажется, пожалуй, лишь то, что иностранцам будет нелегко его произнести!). Где бы Маклаков ни появлялся, внимание было обращено именно на него, о чем рассказывает Алданов в предисловии к юбилейному сборнику маклаковских речей.
«И в столовой, и в гостиной Василий Алексеевич говорил много, чрезвычайно интересно, всегда с большим оживлением. При этом жесты и интонация у него бывали совершенно такие же, как на трибуне Государственной Думы или в петербургском, в московском суде: все было совершенно естественно. Разумеется, в огромном зале Таврического дворца он говорил громче, но и там никогда не кричал — великая ему за это благодарность! Когда человек, дойдя до очередного Александра Македонского, вдруг с трибуны начинает без причины орать диким голосом, это бывает невыносимо… И еще спасибо Василию Алексеевичу за то, что в его речах почти нет «образов». Образы адвокатов и политических деятелей — вещь нелегкая. В начале первой войны один известный оратор все говорил образные речи. Самым лучшим его образом было то, что Германия бронированным кулаком наступила на маленькую Бельгию. Помню уже в эмиграции образную речь другого известного оратора: он долго говорил о «чертополохе большевистского яда». Бунин, слушая, только тяжело вздыхал. Римляне находили, что о малых вещах надо говорить просто и интересно, а о великих — просто и благородно. Именно так говорил Маклаков».
Из публичных выступлений Василия Алексеевича в первое десятилетие эмиграции надо выделить речь о Пушкине на празднике русской культуры в июне 1926 года. Не помню, к сожалению, как отнеслись к ней слушатели, но допускаю, что были они частично разочарованы — если не самой речью, как всегда блестящей и содержательной, то ее особым характером. Многие, верно, заранее спрашивали себя, что скажет Маклаков о пушкинской поэзии, о пушкинском гении, зная, что в прошлом речи о Пушкине превращались порой во всероссийское событие, как было в 1880 году, когда Достоевский в Москве вызвал в зале рыдания и обмороки. Многие помнили и речь Блока, за несколько месяцев до его смерти, в ледяном зале Петербургского дома литераторов на Бассейной — воспоминание трагическое, которое едва ли когда-нибудь изгладится в сознании очевидцев и слушателей.
Маклаков остался верен себе, верен своей природной скромности. Он не пожелал говорить о том, что считал областью если и не совсем для себя чуждой, то все же непривычной. Как в своих писаниях о Толстом он почти никогда не говорит о художнике — указывая, что об этом «все сказано», хотя сказано о Толстом далеко не все и он, Маклаков, мог бы сказать еще многое такое, чего не заметили или не поняли другие,— так и в речи о Пушкине он пушкинского творчества не коснулся, предпочтя говорить, пусть и в связи с Пушкиным, об особенностях русской культуры, о долге эмиграции и о нашем вероятном будущем.
Он начал с напоминания, что в России никогда не было национального праздника. Были царские дни, но царские дни — совсем не то, и с каждым новым монархом дни эти менялись, что их временный характер подчеркивало. Потребность в таком празднике возникла в эмиграции, когда Россию мы потеряли, и она стала нам еще дороже, чем была. В других странах национальные праздники приурочиваются к памятным всему народу политическим событиям. У нас в прошлом такого события не было, и даже 19 февраля объединить русских людей не могло. «Мы можем мечтать и надеяться,— сказал Маклаков,— что в будущем события сложатся так, что создастся определенный день радостного перелома, день обновления и примирения, в котором все признают дату национального праздника». Явный намек на неизбежное, по тогдашним предположениям, падение большевиков.
До наступления этого дня русские люди объединяются в чествовании Пушкина. Но есть и другое, более глубокое основание для предпочтения имени литературного имени или событию политическому. Образ Пушкина, творчество Пушкина опровергают все сильнее распространяющееся «суеверие о всемогуществе государства».
«В наше переходное время естественно вспомнить, что наряду с государственной формой, в которую сложился народ, есть совокупность свободного, без всякой принудительной силы, народного творчества, которое развивается по другим основаниям и которое мы называем культурой».
При встрече с Пушкиным государство обнаруживает свое бессилие. Оно может убить Пушкина, но не может его создать. «В области культуры обнаруживается истинное назначение государства: создавать для народа условия, в которых может развиваться и процветать его свободная деятельность. Это очень много, но это и все».
Русское государство исчезло. То, что создано на его развалинах, нас отталкивает и ужасает. Но русская культура жива, и ее живучесть, ее сила и красота внушают нам уверенность, что «мы не можем погибнуть» (подчеркнуто Маклаковым). Эту уверенность разделяет и Запад.
Советская власть — «грубая, самоуверенная и невежественная» — утверждает, что культуре она покровительствует. Именно своим покровительством она подвергает ее великой опасности. Наш исторический долг в отношении культуры ясен. «Если позволительно сомневаться, чтобы отсюда мы были в силах служить государству, то мы можем по крайней мере служить нашей культуре». Но есть опасность и здесь. Русские всегда отличались переимчивостью, в этом была даже одна из сильных сторон русской цивилизации, и именно на этом Достоевский построил свою речь о Пушкине. Здесь, в эмиграции, «чужое может задавить наше родное». Здесь мы «должны защищаться, должны считать недостатком то, чем прежде в себе дорожили».
«Мы должны беречь свои культурные достижения со скупостью человека, который не имеет права быть расточительным. Мы защищаем последнее, защищаем то, что не нам одним принадлежит».
Другая опасность — постепенное превращение русской культуры в эмигрантскую. Избежать этого можно, только сохраняя связь с прошлым. «И мы, и они там, в России,— одинаковые последствия нашего прошлого». Если мы не разорвем связей со старой Россией, то «в новой России не окажемся иностранцами и, несмотря на все наши различия, друг друга поймем».
В речи этой у Маклакова еще чувствуется оптимизм. Он утверждает, что эмиграция — явление преходящее, «не живущее дальше одного поколения», но по-видимому, еще твердо надеется, что его поколение дождется коренных политических изменений в России. В случае, если бы этого не произошло, «второе поколение либо сольется с Европой, либо вернется в Россию» – предсказание, кстати сказать, не вполне оправдавшееся. Весь склад речи еще бодрый, в соответствии с настроениями, тогда в эмиграции еще господствовавшими.