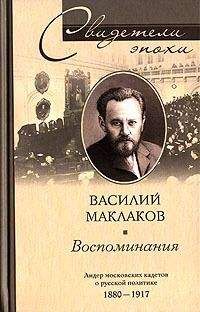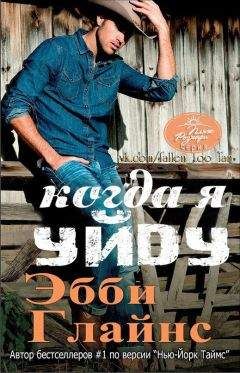Георгий Адамович - Василий Алексеевич Маклаков. Политик, юрист, человек
«Следует думать только об одном и добиваться только одного — интервенции, руками той же Германии, под контролем союзников-победителей уничтожение большевизма и восстановления порядка в России, т. к. без этого Россия погибнет окончательно и станет очагом, из которого яд коммунизма проникнет во весь мир». Ледяным душем или, как он пишет, «полным откровением» была для Коковцсва беседа с французским послом в Лондоне Полем Камбоном. Камбон сказал:
«Никакой интервенции вы не добьетесь, и ее не будет. Мы страшно устали и обескровлены. Мы считаем, что теперь все кончено, и хотим как можно скорее залечить наши раны. Всякий, кто станет говорить о новом усилии в России, встретит самое решительное противодействие, и агитация против этого объединит столько разнообразных элементов, что не устоит никакое правительство. К тому же мы, французы, не одни, а в Англии и еще больше — в Америке положительно никто не желает вмешиваться в русские дела и их не понимает. Рабочим здесь представляется, что ваши привилегированные положения и в глубине души думаете восстановить монархию или что-либо иное, но, во всяком случае, в существе старый порядок».
Эту довольно длинную цитату, прямого отношения к деятельности Маклакова не имеющую, я привел не случайно: она крайне характерна для политического настроения первых послевоенных времен и взглядов, с которыми столкнулись на Западе русские беженцы. Конечно, и среди русских многие были решительно против интервенции и утверждали, что ни при каких условиях иностранное вмешательство в русские дела недопустимо. Если когда-нибудь будет написана история этого периода, картина получится пестрая: в чем только наши политические деятели друг друга не упрекали, каких замыслов идейным противникам своим не приписывали! Но иначе и быть не могло. За границей оказались представители всех русских политических течений, кроме большевиков. Интеллигенция была за рубежом и знала, что та часть ее, численно пусть и преобладающая, которая добровольно или поневоле осталась на родине, ей в огромном своем большинстве сочувствует и на нее возлагает надежды. Расхождения были неизбежны и даже вполне нормальны, тем более что осуществление разрабатываемых на чужбине планов, с интервенцией или без нее, каждому казалось близким и чемоданы у всех стояли наготове.
В 1921 году появился советский декрет о лишении права гражданства лиц, покинувших Россию после октябрьской революции, и участников белого движения. С этого момента самое понятие эмиграции перестало для русских быть растяжимым, поддающимся разным толкованиям, как бывало до революции в применении к людям, враждовавшим с царским строем, но имевшим возможность в любую минуту вернуться на родину. С этого же времени роль и положение Маклакова в Париже начали постепенно приобретать иной оттенок, иной характер. Дипломатическая его миссия, в рамках которой он с ревнивой принципиальностью держался на первых порах, все явственнее теряла всякое реальное содержание. Зато возрастало его значение как представителя, помощника, заступника, ходатая, советника — сначала случайного, затем постоянного и общепризнанного — тысяч и тысяч русских людей, которым чужая страна дала приют, сама еще не решив, каковы их права и каковы обя занности.
Лишь в 1924 году, после признания Францией советского правительства, был создан при участии Маклакова Эмигрантский комитет, внутренне расколовшийся на две политические группы, правую и левую, но внешне сохранивший единство. Этот комитет стал выдавать документы, то есть удостоверения, свидетельства, справки, – все, что могло быть необходимо людям, которые, случалось, бежали из России, не имея на руках ни паспорта, ни метрики, ничего решительно. Документы еще не имели официально признанного, бесспорного значения. Однако французское правительство указало префектам, что их следует считать dignes de confiance, хотя и с внушительной оговоркой: «под вашей личной ответственностью». Префектам рекомендовалось доверие, но рекомендовалась и осмотрительность, (По-видимому, первая важная для правового положения русских эмигрантов мера была принята при содействии Коковцева, который был в дружеских отношениях с Пуанкаре и, как сам указывает в своих мемуарах, никогда не встречал с его стороны отказа в делах, эмиграции касающихся.)
Позднее в Женеве был создан и признан Лигой наций Международный комитет частных организаций для выработки общего беженского статута. Явление «беженства», прежде не существовавшее, становилось чем-то настолько распространенным, а его естественная и безболезненная ликвидация настолько проблематичной, что европейские государства сами были заинтересованы в упорядочении или даже разрешении этого вопроса. Из русских организаций в Женеве представлены были Земгор, Красный Крест, Союз инвалидов некоторые другие. Заседаний было множество, обсуждение представленных проектов длилось больше года, но из-за недоразумений и путаницы при голосовании принятым оказался только некий «Arrangement», а не окончательный статут, как предполагалось вначале. Маклаков лишь изредка приезжал в Женеву, но женевские начинания он во Франции проверял на практике, а в письмах к друзьям, в Комитете работавшим, указывал на степень желательности той или иной из намеченных мер, разъяснял трудности, которые могут встретиться, давал советы — словом, как человек, уже опытный в вопросе об отношениях чужеземных правительств к эмигрантам, всячески содействовал тому, чтобы статут оказался наиболее приемлемым [1].
Временный «арранжеман» был заменен через несколько лет международной конвенцией, подписанной в 1933 году, но вошедшей в силу лишь в 1936 году. После войны наплыв новых беженцев, установление новых границ и изменение всей международной обстановки вызвали потребность в новой конвенции, которая была утверждена в 1951 году и действует до сих пор. Однако французская администрация в некоторых вопросах, касающихся довоенной русской эмиграции, руководствуется по-прежнему Конвенцией 1933 года, более либеральной по духу.
Разумеется, в трудах по выработке правовых норм для людей, которые в качестве непрошеных гостей могли в иных случаях стать жертвой произвола — если и не правительственного, то чиновничьего,— Маклаков принимал участие самое деятельное. Однако обстоятельный рассказ об этом не входит в мою задачу и тоже — вместе с общей историей возникновения и первых лет существования русской эмиграции — должен бы стать предметом особого очерка. Умышленно я ограничился лишь сухим перечислением фактов.
Маклаков был натурой слишком широкой, интересы его были слишком разносторонни, чтобы и на посту посла или — позднее — главы эмигрантского «офиса» замкнуться в сфере повседневной работы. Он вынес из России привычку к постоянным дружеским или деловым сношениям с «общественностью» — слово непереводимое, специфически русское, которому суждено, может быть, наподобие слова «интеллигенция», войти в иностранные языки (препятствием окажется, пожалуй, лишь то, что иностранцам будет нелегко его произнести!). Где бы Маклаков ни появлялся, внимание было обращено именно на него, о чем рассказывает Алданов в предисловии к юбилейному сборнику маклаковских речей.