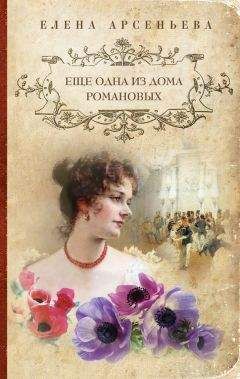Евгений Баранов - О падении дома Романовых
Ему никто добра не сулил, а только горькую жизнь. По первому разу, когда он еще наследником был, родная мать говорила ему:
– Уступи, говорит, престол брату Михаилу, не то сам пропадешь и весь царский дом погубишь.
Сама-то она этого не знала, а ей отшельник один на Старом Афоне открыл – в горах спасался, и был он прозорливец. И ездила она к нему тайком, нарочито, чтобы насчет Николая узнать, какая его жизнь будет – благополучная или несчастная. А отшельник и говорить не стал много, только и сказал:
– Сам в яму упадет и вас всех за собою потащит.
Вот от кого это стало известно, а ей-то самой где знать? Не пророчица же была, в сам-деле!
Вот она и думала – ежели он откажется от престола, несчастья не будет с царским домом. Ну, он послушался было ее, да отец запретил.
– Ты, говорит, это выкинь из головы, не то проклятие тебе будет от меня. – И царицу тоже пробрал: – Ты, говорит, не в свое дело не встревай. Я, говорит, знаю, кому быть наследником, кому не быть.
Нравный был: что сказал, то и быть по его, а ежели ослушался кто, он уж колыхнет. Сурьезный был, да и выпивал. Шибко, говорят, пил и умер от водки, она-то и съела его.
Ну, как он сделал этот запрет Николаю, тот и присмирел, не стал отказываеться от престола. А сам материны слова в уме держал. И как отец умер и взошел он на престол, сейчас за Иваном Кронштадтским послал. Вот приходит Иван Кронштадтский, а он ему говорит:
– Как на ваше мнение: благополучно будет мое царство или неблагополучно?
А Иван Кронштадтский был человек такой: глянет кому в глаза и уж знает, какая его судьба будет. И вот как задал Николай ему вопрос, он сразу не ответил, а жмется: обмануть не хочет, а правду боязно сказать… А Николай говорит:
– Вы, отец Иван Кронштадтский, не скрывайте правду. Ничего плохого вам от меня не будет за это.
Иван и сказал:
– Ваше царство – одно кроволитие.
А Николай поверил – не поверил, неизвестно, а только сказал:
– Это мы увидим.
И как ушел Иван Кронштадтский, приказал не допускать его во дворец. Не понравились, конечно, Ивановы слова, заскребли мало-мало за сердце…
А только царствует себе благополучно – ничего плохого нет и никакого кроволития не происходит. Не происходит и не происходит… А тут коронация… И как она была, на Ходынке на гуляньи тысячи народу повалило. Он из Кремля едет на Ходынку народу показаться, а навстречу везут задавленных – все в крови, где рука мотается, где голова…
– Это что такое? – спрашивает. – Это откуда?
А ему говорят:
– На Ходынке народ подавили.
Он сейчас назад в Кремль. Сейчас стал дознаваться, отчего это случилось и кто этому виноват? А кто же тут был виноват, окромя родного дядюшки, Сергея Александровича? Ему Власовский, обер-полицмейстер, еще за две недели говорил:
– Надо больше войска для порядка.
А он такая гордыня был: чтобы он кого-нибудь послушался? Никогда такого дела не было. Умней себя никого не признавал.
– У меня, говорит, и без войска порядок будет.
Ну, «будет» – пусть будет. С царским дядей не поспоришь! А «порядок» этот – на Ваганьково кладбище три дня возили с Ходынки тела, фур по ста за раз… Вот какой его «порядок». А во всем виноватым поставил Власовского. И дал царь увольнение Власовскому – вон со службы… Ну, и Сергею Александровичу не прошла даром Ходынка: в японскую войну припомнили.
Тут – одеяльное дело, с него и почин пошел. Тоща Савва Морозов три тысячи одеял пожертвовал раненым солдатам, а Сергей Александрович эти одеяла на Сухаревке продал. Понятно, не сам продал, а были у него такие сударики.
Вот Морозов слышит: толкуют, будто его одеяла на Сухаревке продаются, а ему не верится. Вот он взял и пошел посмотреть: правда ли это? Вот приходит, смотрит – и верно: которые он одеяла пожертвовал – идут в продажу.
И тогда эта самая история не только по Москве – по всей России известна стала. Ну вот и припомнили тогда ему и Ходынку. Тут одеяла, а тут еще Ходынка на прибавку пошла – одно к одному.
– Ему, говорят, неймется. Опять за старое взялся!
И бросили в него бомбу. И разорвало его, всего разнесло: где рука, где нога… Голову два дня искали, насилу нашли – на крышу забросило…
Вот какое ублаготворение ему сделали! Он думал: «Я – царский дядя!..» А тут нашлись такие – не посмотрели на это.
Ну, и Николаю тоже с Ходынки пошло… То все ничего, все благополучно, а то, как кончилась коронация, стало все хуже и хуже – нескладица такая пошла. Ну, хоть и не настоящая революция, а все же было кроволитие большое… И после этой первой революции все стали говорить:
– Добром не кончится.
А как стали мы воевать с немцами, народ прямо говорил:
– Не одолеть нам Германию ни за что. Ежели, говорит, Японию не одолели, где уж с Германией справиться?
Ну, так и было. Какая война, ежели измена на измене? В японскую войну русскую кровь за золото продавали, а тут еще больше продавали. Солдаты и отказались воевать.
– Мы, говорят, бьемся, кровь проливаем, а нас продают. Какая же это война?
И верно, что продавали… Все в один голос говорили: «измена». Измена, и никакого порядка не было. Николай какой стал? Не он царь, а Распутин да царица. Вдвоем они всем распоряжались и на сторону Германии играли. А Николай совсем пропавший стал, и ни к чему у него охоты не было, только пил и пил… Вот говорят, будто ему было сделано, что он пил. А какое «сделано»? По отцу пошел: отец пил, а он еще больше. Он пьет и пьет, а этот бродяга Распутин да царица мухлюют вдвоем. И все знали про это… И не стало терпения, убили Распутина.
Его убили – взялись за царя, и было ему свержение с престола. И как он остался без престола, без царства, тут и говорит генералам, которые при нем были:
– Как бы, говорит, дело по-матрешкиному не вышло. А эта Матрешка была баба-карлик, и звать ее было по-настоящему не Матрешка, а иначе, а Матрешкой прозвали вроде как бы в насмешку… Это вот есть куклы такие деревянные, маленькие, красками разрисованы, расписаны. И как этакую куколку не повали, она все встанет как следует… И дали ей прозвище «Матрешка».
Вот и эту бабу… да и не баба она была, а девка старая… И была она юродивка – будто дурочка, а знала такое, что иному и во веки вечные не знать. Ну вот, и ее тоже прозвали Матрешкой, а как ее заправдошнее имя было – никто не знал.
И от этой самой Матрешки был Николаю подарок, такой подарок, что и на всем белом свете никому такого подарка еще не было. Это когда Николай с царицей приезжал на открытие мощей Серафима Саровского. И вот тут Матрешка поднесла ему платок весь в крови, а царице – холстину длинную и узкую, вроде такой, на которой гроб с покойником несут хоронить. И тут все смотрят: что же это такое? К чему это такое? А Николай и не знает, что ему делать с платком. Держит его в руке и на Матрешку смотрит. А Матрешка говорит: