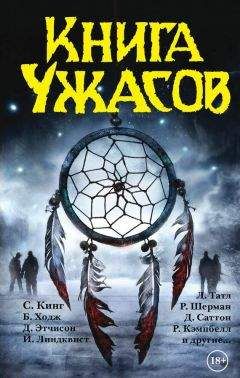Павел Лосев - На берегу великой реки
– Мамка слезами заливается, – уже более уверенно говорил Савоська, поднимая глаза. – Сердится барин на Степана. Грозится всех нас продать в чужую сторону.
– Продать? – Александр Николаевич задумался и вздохнул. – Это штука серьезная. Сейчас я позову Степана. – И, пригнувшись под притолокой, он скрылся за дверью. Через минуту на крыльцо вышел Степан, сопровождаемый учителем.
Выслушав бессвязный рассказ Савоськи, он озабоченно откинул назад с большого загорелого лба красивые русые волосы.
– Да-а, – уныло протянул Степан. – Выходит поспешать надо. – Затем, обернувшись к Александру Николаевичу, он застенчиво сказал:
– Так что я уж в другой раз решу эту задачку Простите, Александр Николаевич, за беспокойство.
Спускаться с горы было легко. К тому же Степан вел ребят по знакомой ему, едва приметной в пожелтелой траве полевой тропинке.
Вышли возле господской конюшни. Степан повернул к дому старосты. А Савоська предложил Коле:
– Айда к нам! Я тебе человечков покажу.
– Каких человечков? – заинтересовался Коля.
– Да Степаха слепил. До чего ловко! Сам увидишь!
Хоть и давно пора домой, там, верно, уже хватились его, но на минутку заглянуть, пожалуй, можно.
Заглянул, да чуть не целый час и пробыл. Вместе с Савоськой разглядывал у раскрытой двери (чтобы виднее было) стоявшие на длинном опрокинутом вверх дном деревянном ящике забавные фигурки из глины. Вот один маленький человечек смело размахнулся косой – сразу видно, что траву косит. А другой над своей головой цеп поднял – значит, снопы молотит. Третий сидит на пеньке и на балалайке играет. Ну, а четвертый подбоченился лихо и пошел вприсядку…
Налюбовавшись глиняными человечками, Коля уже собрался было уходить, как вдруг в избу с рыданиями ворвалась мать Савоськи. Седые ее волосы растрепались, клетчатый платок сполз набок. Она, как пласт, упала на лавку и громко запричитала:
– Ох, горе-горюшко! Ох, за что нам такие муки выпали?
– Мамка! Ты что, мамка? Кто обидел тебя? – кинулся к ней Савоська.
– Да не меня, Степаху нашего, кровиночку мою, – сквозь слезы отвечала Василиса, стукаясь головой об лавку. – На «девятую половину»[1] послали. Ни за что, ни про что!
Она зарыдала с новой силой.
Стоя в полутемном углу, Коля печально смотрел на Василису, с болью в сердце слушая ее горестные причитания.
– Царица небесная, пресвятая богородица! Да какой же из него псарь, какой собачник? – будто убеждая кого-то, плакала Василиса. – Малым дитей был – его барбосы проклятые покусали. С той поры видеть он их не может. А теперь – на псарню! Да еще сейчас сечь будут. О, господи! За что муки такие? За какие прегрешения?
Незаметно выбравшись из тесной избы, Коля медленно поплелся домой. В синеватых лужах грустно блестело холодное, негреющее солнце. Огнем пламенела рябина под окнами. Алые ягоды ее напоминали капли крови, которая вот теперь, в эту минуту, может быть, брызжет из белого тела Степана. Хмуро каркала серая ворона на макушке гнилой ветлы, пророча новые беды.
Никогда еще не было Коле так печально и тоскливо, как сегодня. Будто он с тягостных похорон возвращался. Будто умер кто-то родной и близкий.
Пороша
Рога трубят ретиво,
Пугая ранний сон детей,
И воют псы нетерпеливо…
Н. Некрасов. «Несчастные».Снег повалил с утра. Все кругом побелело: и черная с застывшими комьями грязи дорога, и зеленые, разбросанные тут и там полоски жидкой озими, и желтые квадраты жнивья, и голые рощи, и перелески.
Вечер. В длинном господском доме, на самом краю Грешнева, рано зажглись огни. Тускло мелькают они в узких продолговатых окнах, наполовину скрытых высоким забором.
Позади дома смутно вырисовываются темные очертания вязов и лип. Они таинственно уходят в сумеречную глубину старого сада.
В этот час Коля сидит в столовой, прижавшись в углу к теплой печке, облицованной цветными изразцовыми плитками. В стороне, напротив окна, склонился над низким круглым столом отец.
Он внимательно рассматривает мелкие частицы разобранного охотничьего ружья, бережно поднимает их одну за другой к свету, иногда что-то неопределенно мыча себе под нос.
В руках у Коли книжка. Но он не читает. Ему скучно. Бесстрастно следит он за движениями отца.
И еще два человека в комнате. Они покорно стоят у двери. Один из них доезжачий[2] Платон, пожилой бородатый мужик в длинном армяке, другой – охотник Ефим Орловский, бритый, с короткими усами, в высоких сапогах.
– Значит, все готово? – строго спросил отец, не поворачивая головы.
– Как есть все готово, Алексей Сергеевич, – наклонил голову доезжачий.
Платон – старый, опытный псарь. Ему даже разрешается называть барина по имени-отчеству.
– Вот и отлично! – повеселел отец. – Куда же поначалу двинемся?
– Надо полагать, в Николо-Бор, Алексей Сергеич, там теперь зверя пропасть.
– Николо-Бор, значит? Добре! Туда так туда!
Коля видит, как, почесав небритую щеку, отец перевел суровые, навыкате, глаза в сторону Ефима:
– А ты что молчишь? Не согласен?
– Нет, почему же не согласен, – осторожно кашлянув в кулак, ответил охотник. – Нам все равно, где зверя бить. Были бы, батюшка-барин, ружьишко да порох.
– А поди у тебя их нет? – насмешливо глянул на него отец. – С голыми руками на охоту ездишь? А? Скажи, не так?
– Я, батюшка-барин, не жалуюсь. Вашей милостью все у меня есть.
– Ну, то-то!
Отец трижды хлопнул в ладоши. Хлопки прозвучали гулко, как выстрелы. Коля вздрогнул. В дверях показался босоногий мальчуган в холщовой рубахе без пояса, с густо намазанными конопляным маслом рыжими волосами, остриженными под кружок.
– А ну-ка, угости нас, чудо-юдо! – крикнул ему отец.
Мальчик мгновенно исчез и через минуту появился с серебряным подносом, на котором стояли три рюмки – одна большая, позолоченная, с тонким рисунком, другие – поменьше, из простого синего стекла.
Взяв большую рюмку, отец опрокинул ее в рот, смачно крякнул, вытер губы рукавом. Затем приказал Платону:
– Пей!
Доезжачий приблизился к подносу. Бережно, боясь выплеснуть хоть самую малую толику вина, взял двумя заскорузлыми пальцами рюмку и, перекрестив ею широкий рот, быстро выпил.
– А ты что стесняешься? – обратился отец к охотнику. – Чай, не красная девица. Пей!
Ефим молча снял с подноса рюмку, степенно выпил и слегка нагнул голову.
Опорожнив еще одну рюмку, отец широко зевнул.
– Ступайте! – приказал он. – Я прилягу. Ефим вышел первым. А Платон, не успев закрыть дверь, вдруг услышал за своей спиной:
– Постой! Степка где?