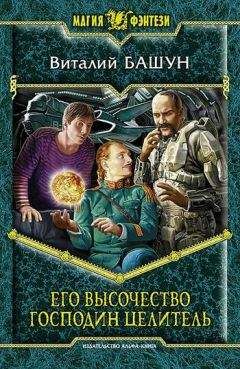Н Скавронский - Очерки Москвы
Многочисленные связи с писателями, актерами, деятелями искусства дали А. С. Ушакову богатый материал для написания в 1894 году «Литературных и театральных воспоминаний».
В них упоминаются актеры императорских театров: С. П. Акимова (жившая, как пишет Ушаков, на Арбате, в приходе Троицы, в доме купца Патрикеева), С- В. Шумский, Л. П. Косицкая-Никулина, В. И.
Живокини, П. М. Садовский, Н. Н. Никифоров, К. Н. Полтавцев, Н. А. Вильде, Е. Н. Васильева, Г. Н. Федотова, Н. А. Никулина, А. И. Колосова, Д. Т. Ленский, И. В. Самарин, М. Н. Ермолова, петербургский актер В. В. Самойлов…
Литератора и актера Дмитрия Тимофеевича Ленского А. С. Ушаков встречал в библиотеке Купеческого собрания, членом-наблюдателем которого состоял: «…тот все свое время проводил в читальной комнате, помещавшейся вверху, — его также буквально каждый вечер можно было встретить там за журналом или газетой».
Любовь Павловна Косицкая-Никулина была замужем за товарищем Ушакова по Московскому коммерческому училищу Никулиным, «страсть которого к театру ярко обнаружилась еще в этой школе и который не особенно долгое время был актером императорских театров и играл небольшие роли на московской Малой сцене…».
С Провом Михайловичем Садовским Ушаков познакомился через купца С. С. Кошеверова (таких едоков и хлебосолов, как Кошеверов, немного осталось в Москве, замечает Ушаков), в чьей лавке и знаменитый актер, и великий драматург А. Н. Островский были завсегдатаями. Садовский навещал Ушакова на его даче в Петровском парке. Для бенефиса Садовского Ушаков написал и посвятил ему пьесу «Комиссионер» (которая, однако, не была поставлена).
О семье Щепкиных упоминает в одном из писем П. А. Ефремову И. К. Разумов. Речь идет о праздновании в Татьянин день 110-летия основания Московского университета: «Студенты, старые и настоящие, собирались, жалко только, по частям… Двести человек было в Собрании, где ораторствовал старый Погодин. Еще около сотни собирались у Дюсо. Наконец, полсотни молодежи под председательством Щепкиных, Михаила, Павла и Николая, собрались у Турина». «Ругали дворян», — сообщает Разумов. При этом произносились речи «о дворянской подлости».
Знакомство Ушакова с М. С. Щепкиным состоялось следующим образом. Переведя пьесу Бальзака «Мачеха», Ушаков отправился к Щепкину, чтобы предложить ее для предстоящего бенефиса великого актера:
«…Отправился к нему на Мещанскую, где он жил, сколько помню, в своем доме, поехал я часов около двух — в то время он обыкновенно приезжал с репетиции и обедал; приехал этот благодушный человек, принял меня; вхожу и объясняю, благодарит, просит оставить пьесу и потом совершенно неожиданно для меня спрашивает, как гоголевский Петух, которого он и играл в переделке из «Мертвых душ»:
— А вы обедали?
— Нет…
— Так милости просим.
Я, разумеется, конфужусь, отказываюсь, иду в переднюю, он меня провожает, — вижу, в соседней комнате накрыт большой стол приборов на четырнадцать, пятнадцать, и Михаил Семенович продолжает меня приглашать, но я отказываюсь, еще более конфужусь и ухожу».
«Вот до какой степени были развиты простота и гостеприимство у этого замечательного артиста и человека», — заключает Ушаков.
«Другой раз, — пишет он, — я встретился с Михаилом Семеновичем в Малом театре (мое кресло пришлось рядом с его, сколько помню, в третьем ряду) во время памятного спектакля, когда П. М. Садовский играл коронную роль Щепкина — Фамусова в «Горе от ума».
Вероятно, читатель ожидает передачи всевозможной критики игры Садовского со стороны Щепкина, и он даже, вероятно, останется не совсем доволен, когда услышит, что не только никакой критики, никаких придирок, никакого осуждения не услыхал я от знаменитого нашего артиста, но, напротив, встретил непритворное увлечение исполнением, хотя совершенно в другом роде, и Щепкин первый вызывал Садовского и громко аплодировал, и у него на глазах блестели слезы умиления; вот черты истинно великого артиста, которым незабвенный Михаил Семенович оставался до самой его смерти…»
Но не только о корифеях сцены повествует Ушаков. Он уделяет внимание и актерам-любителям, особенно когда это были люди, оставившие и вообще заметный след в культурной жизни Москвы:
«Импровизация С. А. Юрьева в Чтении в память Писемского в Обществе российской словесности была неумолкаемый рассказ блестящего изложения этой пьесы («Горькая судьбина». — Л. П.) и объяснения характеров главных действующих лиц».
Об А. Н. Плещееве А. С. Ушаков также отзывается как о чтеце-любителе: «…публично читал он неохотно и хорошо читал только свои лирические стихотворения… раз, во время одного спектакля нашего драматического кружка, сколько помню, в зале Московского коммерческого училища, его упросили прочесть сцену из второго акта «Горя от ума»… но в чтении обнаружилось более плещеевского добродушия, нежели грибоедовской соли».
Упомянув о Плещееве, Ушаков называет и «людей его кружка» — писателей-демократов В. А. Слепцова и А. И. Левитова:
«Собственно кружков в том, когда-то имевшем большое значение смысле, как кружок Станкевича, Герцена… в воспоминаемое мною время не было, и А. Н. Плещеев никогда не состоял в главе кружков; так как он был в то время человеком с известным направлением, то около него и собирались люди подобного же направления…
(Далее зачеркнуто: «…к которому кроме двух вышеозначенных принадлежал в то время и А. С. Суворин, живший в то время в Москве с первою своею женою Анной Ивановной на Плющихе, в маленьком деревянном сереньком домике, сколько помню, в Благовещенском переулке».)
В. А. Слепцова я знал мало; помню, что он раз участвовал на одном из литературных чтений, бывших довольно часто при нашей библиотеке, мастерски читал своих «Свиней» и выглядел очень элегантно, как А. Н. Плещеев, в то время, жрецом литературы…
То, что Слепцов читал великолепно, неудивительно. В сезон 1854/55 г. он был актером на ведущих ролях в Ярославле.
Сашу Левитова я знал близко и хорошо, это-то истинно была простая, русская, деревенская душа, и всю эту душу он клал в то, что писал, в то, что он поистине творил. Но то необеспеченное положение, в котором он явился в Москву, буквально без гроша в кармане, и не могло никогда при его бесхитростной, почти детской душе хотя сколько-нибудь и на сколько-нибудь определенно поставить его на ноги. Это и по виду был человек не от мира сего: небольшого роста, худощавый, с миниатюрными чертами, с белокурыми с желтоватым оттенком волосами, в истрепанном костюме, — в легоньком картузе и [с] большей частью худыми сапогами, на что он нередко указывал, когда уже его нужда переходила через край. Бывши и сам в постоянных недостатках, делишься с ним, бывало, чем возможно; едем, бывало, по закрытии библиотеки с женой на дачу, он присядет на облучок; идешь в клуб, и он пойдет почитать; и пока у него есть, как он выражался, «работишка», пока горит в его душе зароненная в нее, несомненно, искра Божия, он еще, бывало, держится на известной высоте; а потом, как, по его выражению, «прорвет», он куда-то пропадет, очутится где-то в каком-либо подвале по соседству с прачками и хоть и утратит, бывало, до некоторой степени наружность образа Божия, но своего достоинства человеческого никогда не потеряет…