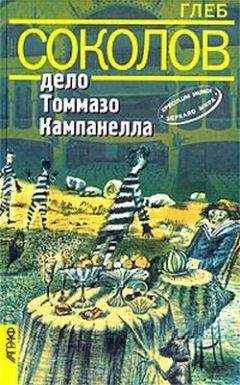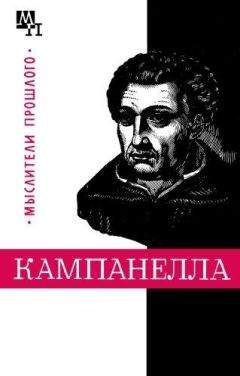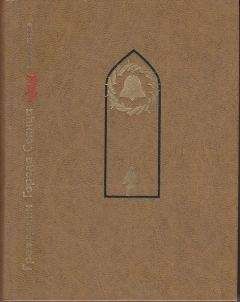Альфред Штекли - Кампанелла
Недовольство достигло предела, когда однажды Кампанелла попросил, чтобы ему выдали еще свечей. За неделю он сжег весь запас, полагающийся на месяц! Приор[5] и слышать не хотел о дополнительных расходах. Тогда новичок набрался наглости и предложил настоятелю, чтобы тот выдал ему на покупку свечей несколько карлино из денег, отпускаемых на питание, и соответственно уменьшил бы его рацион. Настоятель отказал. Слух об этом разговоре распространялся по всему монастырю.
На следующее утро к Томмазо вошел шумливый Диониоий Понцио, его сверстник, один из тех, кто своим непокорным нравом и дурным поведением особенно досаждал приору. Он вытащил из-под плаща светильник и бутыль масла глупо было бы отказываться от чтения книг из-за скупости настоятеля. Томмазо не мог скрыть своего удивления. Как он умудрился все это раздобыть?
Дионисий признался, что почти каждый вечер, как только раздается сигнал ко сну, он перелезает через ограду и уходит в город. Он не собирается быть образцовым монахом! Если бы не ранняя смерть отца, то он никогда бы не напялил на себя рясу. Семья-то у них хорошая, да денег давно уже нет. Одного лишь счастливчика Ферранте и удалось отправить в Неаполь изучать юриспруденцию, а двум другим братьям, ему и Пьетро, пришлось идти в монастырь.
Вскоре тесная дружба связала Дионисия и Томмазо. Они много бывали вместе. В их беседах принимали участие Пьетро Понцио, Джамбаттиста Пиццони и Пьетро Пресвитера. Всем им было душно в монастырских стенах, они мечтали об огромном мире и героических подвигах. Томмазо охотно рассказывал им о себе.
Детство его было нелегким. Отец-сапожник с трудом кормил большую семью. Сперва они жили в городке Стило, но потом чума заставила их бежать в Стиньяно. Там было не слаще. Томмазо вряд ли мог рассчитывать на более счастливую, чем у его безграмотного отца, судьбу, если бы в самом раннем детстве не столкнулся с человеком, научившим его читать и писать. Имя своего первого учителя, Агацио Солеа, он будет всю жизнь вспоминать с чувством неизменной благодарности. Приятно воскресить в памяти и ветхое здание школы около церкви в Стило, и первые уроки грамматики, и робкие попытки писать стихи. Довольно быстро он перенял у учителя все его знания, и Агацио стал настаивать, чтобы Томмазо продолжал учение. На какие средства? Отец с трудом кормил семью. Единственный для бедняка путь к знанию лежал через монастырскую школу. Не достигнув еще пятнадцати лет, Томмазо был посвящен в монахи. Все свои силы он отдавал учению. У него были большие способности и прекрасная память, но он не хотел, чтобы она была рабской памятью!
Он отличался беспокойным характером и опасной склонностью во всем доискиваться корней. Давно уже его вопросы ставят в тупик учителя. Да и разве может быть иначе? Разве они сами, и Дионисий и Джамбаттиста, пожелают удовлетвориться только той премудростью, которую им преподносят?!
Учителя заставляли его вызубривать наизусть целые страницы священного писания. Из него растили отчаянного софиста-спорщика, а природа продолжала оставаться для него за семью печатями.
Его жадность к книгам была беспредельной. Чем глубже изучал он перипатетиков,[6] тем большее беспокойство овладевало им. Истины, которые с таким усердием ему с ранних лет вдалбливали в голову, оказывались ложными, а авторитеты, обязательные для поклонения, дутыми. Он без устали изучал комментаторов Аристотеля — греческих, латинских, арабских. Сомнения множились с каждым днем. Он все яснее видел пропасть, лежащую между схоластикой и жизнью.
Друзья восторженно слушали Кампанеллу. Невзирая на молодость, он успел уже столько познать.
Томмазо смеялся. Секрет успеха очень прост — никогда не надо жалеть ни трудов, ни свечей!
Он давно уже задумывался над причинами царящей в мире несправедливости. Учителя ссылались на установленный Богом порядок. Человек, родившийся в грехе, уже в силу своей природы склонен к злу. Только с помощью Благодати Божьей он может устоять на стезе добродетели.
Что же остается делать? Проводить годы в молитвах и постах и ждать, пока всевышний призовет тебя к вечному блаженству на небе?! Он рано начал сомневаться в том, что его заставляли принимать на веру. Рассказы о грехопадении Адама и о последствиях, которое имело оно для всего рода человеческого, казались ему баснями. Он не хотел верить, что люди от природы склонны к злу и несправедливости. С детства он видел, как бедствовал повсюду народ. Люди, задавленные нуждой и непосильной работой, были суровыми и ожесточенными. Спор из-за клочка виноградника приводил к кровной мести, продолжавшейся десятилетиями. Однако кто, как не они, крестьяне и ремесленники, создали все, чем гордилась Калабрия, — построили красивые города, проложили дороги, насадили оливковые, апельсиновые и тутовые рощи? А кто, как не они, проявляли величайшее самопожертвование, когда в стране свирепствовала чума, разражались стихийные бедствия или когда африканские корсары нападали на побережье?
Ему трудно было выбраться из этого заколдованного круга. «Возлюби ближнего своего больше самого себя», — кричат попы с каждого амвона. Но ведь на деле большинство людей думает только о собственной выгоде и изо дня в день творит несправедливость. Значит, основное зло в эгоизме!
Томмазо много думал о том, под влиянием каких причин появляется в человеке себялюбие. Ответ дался ему не легко и пришел не сразу.
В Калабрии было тревожно. Почти целое столетие весь юг Италии находился под властью испанцев. Чиновники испанского вице-короля, обосновавшегося в Неаполе, вытягивали из страны последние соки. Церковь была заодно с поработителями. С каждым годом все больший отклик находили люди, проповедовавшие идеи направленные против церкви. Римская инквизиция то и дело посылала в Неаполитанское королевство своих уполномоченных для борьбы с еретиками.
Здесь надолго запомнили дикие преступления инквизиторов, которые с помощью нескольких полков испанской пехоты истребили сотни вальденсов.[7] Палачи убивали их словно овец, перерезая ножом горло. Тела казненных были четвертованы и для острастки выставлены по всем дорогам Калабрии.
Даже страшнейшим террором испанцы не смогли подавить сопротивление. Скрываясь от преследований властей люди уходили в горы. Их называли «фуорушити»[8] и одно это слово нагоняло на испанцев страх. Вице-король постоянно усиливал гарнизоны в Калабрии и увеличивал и без того непосильное бремя налогов. Крестьяне, разоренные бесчисленными поборами, бросали поля и вливались в отряды фуорушити.