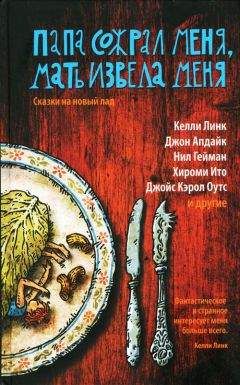Марина Цветаева - Автобиографическая проза
И за то, что белые, при нажиме, явно веселые, а черные — сразу грустные, верно — грустные, настолько верно, что, если нажму — точно себе на глаза нажму, сразу выжму из глаз — слезы.
И за самый нажим: за возможность, только нажав, сразу начать тонуть, и, пока не отпустишь, тонуть без конца, без дна, — и даже когда отпустишь!
За то, что с виду гладь, а под гладью — глубь, как в воде, как в Оке, но глаже и глубже Оки, за то, что под рукой — пропасть, за то, что эта пропасть — из-под рук, за то, что, с места не сходя, — падаешь вечно.
За вероломство этой клавишной глади, готовой раздаться при первом прикосновении — и поглотить.
За страсть — нажать, за страх — нажать: нажав, разбудить — всё. (То же самое чувствовал, в 1918 году, каждый солдат в усадьбе.)
И за то, что это — траур: материнская, в полоску блузка того конца лета, когда следом за телеграммой: «Дедушка тихо скончался» — явилась и она сама, заплаканная и все же улыбающаяся, с первым словом ко мне: «Муся, тебя дедушка очень любил».
За прохладное «ivoire»,[6] мерцающее «Elfenbein»,[7] баснословное «слоновая кость» (как слона и эльфа — совместить?).
(И — детское открытие: ведь если неожиданно забыть, что это — рояль, это просто — зубы, огромные зубы в огромном холодном рту — до ушей. И это рояль — зубоскал, а вовсе не Андрюшин репетитор Александр Павлович Гуляев, которого так зовет мать за вечное хохотание. И зубоскал совсем не веселая, а страшная вещь.)
За «клавиатуру» — слово такое мощное, что ныне могу его сравнить только с вполне раскрытым крылом орла, а тогда не сравнивала ни с чем.
За «хроматическую гамму» — слово, звучавшее водопадом горного хрусталя, за хроматическую гамму, которую я настолько лучше понимала, чем грамматическое — что бы ни было, которого и сейчас не понимаю, с которого-то и перестаю понимать. За хроматическую, которую я сразу предпочла простой: тупой: сытой: какой-то нянькиной и Ванькиной. За хроматическую, которая тут же, никуда не уходя, ни вправо ни влево, а только вверх, настолько длиннее и волшебное простой, насколько длиннее и волшебное наша тарусская «большая дорога», где можно пропасть за каждым деревом — Тверского бульвара от памятника Пушкина — до памятника Пушкина.
За то, что — это я сейчас говорю — Хроматика есть целый душевный строй, и этот строй — мой. За то, что Хроматика — самое обратное, что есть грамматике, — Романтика. И Драматика.
Эта Хроматика так и осталась у меня в спине.
Больше скажу: хроматическая гамма есть мой спинной хребет, живая лестница, по которой все имеющее во мне разыграться — разыгрывается. И когда играют — по моим позвонкам играют.
…За слово — клавиш.
За тело — клавиш.
За дело — клавиш.
И слово любила «бемоль», такое лиловое и прохладное и немножко граненое, как Валериины флаконы, и рифмовавшее во мне с желтофиоль, никогда не виденным материнским могильным цветком, с первой страницы «Истории маленькой девочки». И «диез», такое прямое и резкое, как мой собственный нос в зеркале. Labemol же было для меня пределом лиловизны: лиловее тарусских ирисов, лиловее стрáховской тучи, лиловее сегюровской «Forêt des Lilas».[8]
Бемоль же, начертанный, мне всегда казался тайный знак: точно мать, при гостях, подымет бровь и тут же опустит, этим загоняя что-то мое в самую глубину. Спуском брови над знаком глаза.
Бэкар же был просто — пуст: знак, что не в счет, олицетворенное как не бывало, и он сам был не в счет, и его самого не было, и я к нему относилась снисходительно, как к пустому дураку. Кроме того, он был женат на Бэккере.
Вначале еще смущали верх и низ, верх, который я неизменно ощущала басами, левым, — а низ — дискантом, тонизной, правым концом клавиатуры, беззвучным уже дребезгом, концом звука и началом лака. (Наверху — горы и гром, внизу — букашки, мухи, например, бубенчики, одуванчики, комары, пискари, — такое…) Теперь вижу, что была права, ибо читаем мы слева направо, то есть с начала к концу, а начало никак не может быть низом, который сам по себе есть схождение на нет. (Тонкий звук сходит на нет, а глухой, басовый — ins All.[9] В рояльный лак. В гулы.) Клавишно-вокальное определение верха и низа соответствовало бы еврейскому письму.
Но больше всего, из всего ранне-рояльного, я любила — скрипичный ключ. Слово — такое чудное и протяжное и именно непонятностью своей (почему скрипичный, когда — рояль?) внедрявшееся, как ключом отмыкавшее весь запретный скрипичный мир, в котором, из полной его темноты, уже занывало имя Паганини и горным хрусталем сверкало и грохотало имя Сарразаты, мир, — я это уже знала! — где за игру продают черту — душу! — слово, сразу делавшее меня почти скрипачом. И еще другой ключ: Born, ключ Oheim Kühlborn: Дядя Струй, из жемчужной струи разрастающийся в смертоносный поток… И еще ключ — другой:
…холодный ключ забвенья,
Он лучше всех жар сердца утолит! —
из Андрюшиной хрестоматии, с двумя неизвестными: «забвенье» и «утолит», и двумя известными: «жар» и «сердце», которые есть — одно.
Слово и вид — лебединый, вид, который я так любовно воспроизводила на нотной бумаге, с чувством, что сажаю лебедя на телеграфные провода.
Басовый же мне ничего не говорил: ни вид, ни звук, и я его втайне презирала. Во-первых, — ухо, простое грубое ухо с двумя дырками, но проткнутыми, — о глупость! не в нем, а рядом — и двумя вместо одной, точно можно в одном ухе носить две серьги и точно, вообще, бывает одно ухо. (Ушной вопрос меня очень интересовал, ибо мать, у которой уши были проткнуты и серьги — висели, называла это варварством, а ее падчерица, институтка Валерия, которая считала это красотой, никак не могла этого проткнутия добиться: то запухали, то зарастали, — так и ходила злая, с шелковинкой.) Слово же «басовый» — просто барабан, бас: Шаляпин. А одна полоумная поклонница (у нее пол-ума, и она все время кланяется!) ставит в двенадцать часов ночи своего трехлетнего Сашу на стол и заставляет его петь, «как Шаляпин». И от этого у него круги под глазами и он совершенно не растет. Нет, бог с басовым! И уже для собственного удовольствия, долбя коленями стул, локтями — стол, ряд чудесных скрипичных, один другого внизу — полнее, вверху — стройнее, — целая вереница скрипичных лебедей!
Но это было письменное, писéцкое, писательское рвение. Музыкального рвения — и пора об этом сказать — у меня не было. Виной, верней причиной было излишнее усердие моей матери, требовавшей с меня не в меру моих сил и способностей, а всей сверхмерности и безвозрастности настоящего рожденного призвания. С меня требовавшей — себя! С меня, уже писателя — меня, никогда не музыканта. «Отсидишь свои два часа — и рада! Меня, когда мне было четыре года, от рояля не могли оттащить! „Noch ein wenig!“[10] Хотя бы ты раз, раз у меня этого попросила!» Не попросила — никогда. Была честна, и никакая ее заведомая радость и похвала не могли меня заставить попросить того, что само не просилось с губ. (Мать меня музыкой — замучила.) Но и в игре была честна, играла без обману два своих положенных утренних часа, два вечерних (до музыкальной школы, то есть до шести лет!), и даже не часто оглядываясь на спасительный круг часов (которых я, впрочем, лет до десяти совершенно не понимала, — с тем же успехом могла бы оглядываться на «Смерть Цезаря» над нотной этажеркой), но как их глубокому зову — радуясь! Играла без матери так же, как при матери, играла, несмотря на соблазны враждовавшей с матерью немки и сердобольной няньки («совсем дитя замучили»!) и даже дворника, топившего печку в зале: «Пойди-ка, Мусенька, пробегись!» — и даже, иногда, самого отца, появлявшегося из кабинета, и, не без робости: «А как будто два часа уже прошли? Я тебя точно уж полных три слышу…» Бедный папа! В том-то и дело, что не слышал, ни нас, ни наших гамм, ганонов и галопов, ни материнских ручьев, ни Валерииных (пела) рулад. До того не слышал, что даже дверь из кабинета не закрывал! Ведь когда не играла я — играла Ася, когда не играла Ася — подбирала Валерия, и, покрывая и заливая всех нас — мать — целый день и почти что целую ночь! А знал он только всего один мотив — из «Аиды» — наследие первой жены, певчей и рано умолкшей птицы. «Даже „Боже, царя храни“ не умеешь спеть!» — мать ему, с шутливой укоризной. «Как не могу? Могу! (и, с полной готовностью) Бо-о-же!» Но до «царя» не доходило никогда, ибо мать, с вовсе уже не шутливо, а с истинно-страдальчески-искаженным лицом тут же прижимала к ушам руки, и отец переставал. Голос у него был сильный.