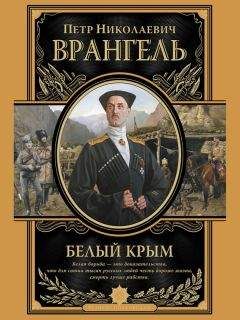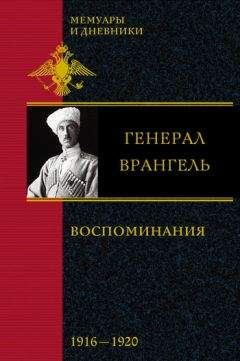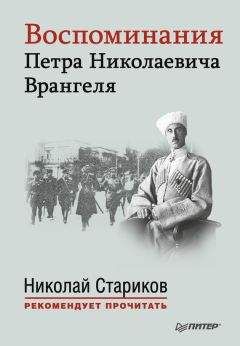Коллектив авторов - Дети войны. Народная книга памяти
Потом нас погнали в Бахчисарай, пригнали в Ханский дворец, началась регистрация. Мне почему-то поставили маленькую круглую печать, а у мамы никаких документов не было, только наши метрики и папин пропуск с фотографией. Несколько дней мы находились в Бахчисарае, потом что-то случилось, и некоторых распустили по домам. Перед этим мы – три семьи поселились в доме на горе. Охраны у нас не было. Ночью нас разбудили родители, и мы ушли.
В Бахчисарае маму чуть не арестовали. Я оторвала в туалете дощечку, кто-то донес. И вот маму хотели арестовать, но ее отстояли люди, мол, дети маленькие, ничего не понимают.
А то еще мы что-то наворовали в столовой. Безногий инвалид увидел нас в окно. «Камарад, рус ворует!» – закричал инвалид, а мы бегом. В Бахчисарае есть речка, над ней мост, мы под мост, а немцы проскочили. Тогда мы на гору бегом.
После освобождения Севастополя маму – Повелко Евдокию Трофимовну – с детьми отправили в село Фронтовое Куйбышевского района, так как у нас не было жилья в городе, а во Фронтовом было грэсовское подсобное хозяйство. И мама проработала в нем двадцать пять лет до пенсии. Умерла она в Севастополе в 1971 году.
На мою маму написали донос
Шергина (Пахомова) Людмила Ивановна, 1939 г. р
Родилась в 1939 году в Севастополе. Коренная жительница города в третьем поколении. Ветеран труда, ветеран спорта. Семья до войны, во время нее и после жила на горе Артиллерийской слободки, в домовладении дедушки, приобретенном им еще в 1919 году. Это по улице Наваринская, 31 Б (ныне это улица Частника) в полутораэтажном доме.
Во время обороны Севастополя наша семья не искала убежища в штольнях. «Помрем вместе – в родном доме», – решили взрослые. Дедушка во дворе вырыл яму, которую заливало жидкой грязью из-за перебитого водопровода. На двух нарах, тесно прижавшись друг к другу, еле вмещались четыре женщины с четырьмя малолетними детьми, которые сидели у них на коленях.
Страдали от бомбежки, артобстрела, глохли уши, задыхались от гари. Мучили нас голод и жажда.
С середины марта 1942 года постановили выдавать по 200 граммов муки вместо хлеба на одного иждивенца. Вместо муки нам перепадала только чечевица. Чудом остались живы. Сначала в наш дом с западной стороны попала бомба. В декабре с Северной стороны в него угодил снаряд. Чуть позже – в вырытой яме родился Боречка. При третьем штурме в шестимесячном возрасте Боречка там же в яме и умер.
28 июня 1942 года в наш изуродованный дом снова попал снаряд. Мама на минутку из ямы занесла меня в уцелевшую комнату переодеться. От взрыва рухнула стена, и меня с мамой заживо завалило. Дедушка откопал. Я была тяжело ранена, без сознания, залита кровью. Пробита голова, разорвана до кости правая ягодица. Но выжила – даже без оказания медицинской помощи.
От взрыва рухнула стена, и меня с мамой заживо завалило.
Дедушка откопал. Я была тяжело ранена, без сознания, залита кровью.
В ноябре 1942 года мою маму по доносу предателя немцы угнали в село Терпение под городом Мелитополем, где нас испытывали на выживаемость вплоть до конца октября 1943 года. При наступлении наших войск нас этапом погнали в неизвестном направлении. На реке Молочной нас догнала линия фронта. Весь бесконечный этап построили у рва в шеренгу по четыре человека. Открыли огонь. Автоматная очередь совсем рядом. Еще чуть-чуть – и нас не будет на свете. На насыпь взлетает очумевший немец. Держась за голову, кричит: «Ганс! Рус!»
Ганс дергается, и автоматная очередь рикошетом бьет мне по ногам. Три пули. Снова залилась кровью, выжила.
Вернулись в освобожденный Севастополь первым же транспортом в мае 1944 года.
Мы были живым щитом
Кириенко-Гудкевич Ираида Ивановна, 1938 г. р
Я родилась 8 июля 1938 года в Севастополе в семье военно-морского летчика Ивана Яковлевича Кириенко. Он служил в командном составе 40-й эскадрильи Качинского полка, который базировался в бухте Матюшенко. В 1944 году мою маму и меня с сестрой Аней угнали на работу в Германию.
Война в Севастополе началась в 3 часа 15 минут, когда фашистские «асы» пытались поставить мины-заграждения, бросая их на город со своих самолетов. Они думали закрыть эскадру в бухте и не дать кораблям выйти в море. Но глубоко ошиблись. В городе и в гарнизоне проходили учения, и фашистские самолеты были встречены прожекторами и артогнем.
Когда немецкие войска подошли к Симферополю (папину эскадрилью в начале войны перебросили под Симферополь, в Сарабуз), папа прислал за мамой машину с двумя краснофлотцами для встречи. Мама попала в самое пекло: передовая, линия фронта, все охвачено пламенем, подходят немцы. Она так испугалась, что она здесь, а дети остались в Севастополе одни. Она плакала и теряла сознание. Командир кричал на отца: «Что за детский сад,
Мама попала в самое пекло: передовая, линия фронта, все охвачено пламенем, подходят немцы. Она так испугалась, что она здесь, а дети остались в Севастополе, одни. Она плакала и теряла сознание. Командир кричал на отца: «Что за детский сад, Кириенко! Отправите жену, и я вас посажу под арест!» Так мама последний раз видела отца.
Кириенко! Отправите жену, и я вас посажу под арест!» Так мама последний раз видела отца.
Ее отправили обратно в Севастополь с двумя краснофлотцами, дали продукты. Фронт раскололся на два лагеря, и 254 дня Севастополь истекал кровью, превращенный в руины и пепел.
В моей детской памяти остались парашюты-мины в фейерверках разрывов, горящий на глазах собственный дом, крещение румынским попом детей с Корабельной стороны. Почему они нас крестили и почему обязательно крестным отцом должен был быть румынский солдат – не знаю. Еще помню виселицы и болтающихся на веревках людей с дощечками – «Партизан» (как назидание, они висели почти месяц).
Немецкие войска устроили перепись, целую неделю держали людей на площади возле пожарной части без еды и воды…
Помню, мама попала в облаву на базаре, ее арестовали, посадили в тюрьму за саботаж – то есть за то, что она не работала на Германию – и присвоение чужих детей, несмотря на то что я была родным ребенком. Заставили в тюрьме мыть и чистить туалеты, она мыла и плакала. Подошел австриец, переводчик, спросил: «Что? С немецким солдатом спала?» Она отрицательно покачала головой, объяснила – облава, а у нее двое детей, он посоветовал – пусть соседи напишут заявление старосте и сами подпишутся. Два месяца мама провела в тюрьме, в оккупации.
Помню, мы лазали на свалке, рядом была немецкая часть, комендатура, собирали очистки картошки и сушили их на буржуйке в детском доме.
Мытарства ее не закончились, выйдя из тюрьмы, она заболела брюшным тифом. Забрали в первую горбольницу, а нас с Анной сдали в приют, он был в центре города, недалеко от главпочтамта. Помню, мы лазали на свалке, рядом была немецкая часть, комендатура, собирали очистки картошки и сушили их на буржуйке в детском доме. Ходили завшивевшие, пухлые, с чесоткой на руках. Пошли проведать маму с сестрой Анютой, нас в больницу не пустили, а во второй раз сказали: