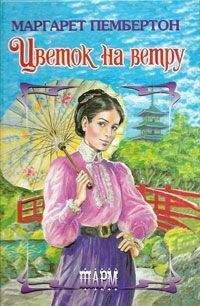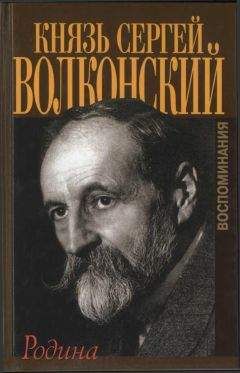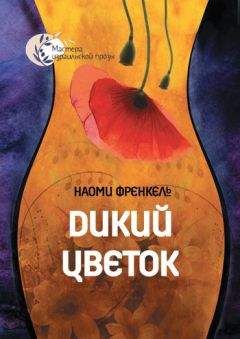Сергей Волконский - Мои воспоминания. Часть вторая. Странствия
Графиня Аделаида вернулась в дом сестры с чувством смутного страха и… страха и стыда. Как вам объяснить это так, чтобы не вызвать улыбки? Мы над ней уж так много посмеялись, и неужели мы и теперь будем издеваться, после того как она столько перенесла? И как перенесла! Но вот видите ли, те несколько дней, когда ее детская, простая душа так мужественно восприняла свое мученичество, были уже позади; то нравственное напряжение, которое подняло ее на уровень самых сильных, закаленных душ, не могло же длиться с таким характером, как ее; после всей этой бури должно было наступить затишье, и тем более неподвижное, чем менее она была подготовлена к налету бури предыдущей жизнью и самой своей природой. И вот, несмотря на то, что со времени отъезда она успела выйти замуж, потерять мужа, похоронить его и пройти через весь ужас своего мученического вдовства, она возвращалась домой такою же скромной, бедной Аделаидой, какой уехала.
Священные воспоминания тех трех дней она скрыла на дне своей пугливой души и хоронила от постороннего глаза с такой ревнивой любовью, что никто из тех, кто знал, через что она прошла, никогда не угадал бы ни объем ее горя, ни глубину ее страдания, ни той высоты, с какою она их перенесла. Да и каким языком, какими словами она бы о них поведала? И, наконец, — кому? Кому было какое дело? Она была с ним одна в карете, когда они ехали из церкви; она была одна, когда, обнимая его голову на своих коленях, она везла его в шарабане; когда у нее его отняли и понесли в чужой для нее дом, она осталась одна, и весь свой страдный путь она прошла одна, без чужой помощи. Нет, она никому не говорила о тех ужасных событиях. Посторонний мог подумать, что судьба взяла и вычеркнула эти несколько кровавых строк со страниц ее жизни: то, что было раньше, и то, что наступило теперь, было так похоже, что мало-помалу прошлое и настоящее сомкнулись поверх того события, которое, казалось, должно бы было навсегда их разъединить. И она, покорная и скромная, вошла в эту готовую обстановку своего прошлого и сейчас же нашла свое старое место: оно не было слишком мало для нее теперь, как не было и прежде, — напротив того.
Да, представьте, — как это ни странно, — ее место казалось ей даже слишком велико, она совестилась его. Вы только подумайте, какою она вернулась — и к кому!
Графиня Марта всю жизнь была для нее авторитетом, и ее замужество, которое было единственным ее самостоятельным шагом, было вместе с тем первым актом неповиновения сестре с тех пор, что она себя помнила; и вот как она за него наказана. Уж тут ее личное горе и священные воспоминания отступали на второй план, а выступали, так сказать, фактические результаты ее замужества: она лишилась своего имени, совершила неравный с общественной точки зрения брак, порвала со всеми традициями, унизилась до принятия подчиненной роли в доме своих предков — а что она за это все получила? Она принесла все жертвы и не воспользовалась ни одним из преимуществ брака; она все упустила, ничего не приобрела, ничего, если не считать родства с мадам Пюжо. И вот она, как блудный сын, возвращалась домой и с замирающим сердцем спрашивала себя: „Что скажет Марта?“ Она смутно надеялась, что сестра хоть немного смягчит степень ее виновности и что после этого она сама, может быть, убедится, что и в ее положении можно смотреть людям прямо в глаза.
Но Марта ничего не сказала. И это молчание сразу закрепило в ней убеждение в непоправимости ее вины; оно вдавило ей в душу печать ее стыда; угрызения совести проникли в самую глубь ее сознания, и она, как павшая, взошла в свой дом и под недосягаемым величием своей девственной сестры проползла в свой угол.
Понимаете теперь, почему ей было совестно своего положения? Почему, когда ее знакомые начали приходить с визитами соболезнования, она горела стыдом, тем самым стыдом, который охватил ее в ту ужасную ночь пред постелью Борниша и перед бельем с меткой А.Б.? Все эти знаки внимания со стороны ее друзей, подходивших к ее руке, говоривших особенным каким-то голосом, их участливые взгляды, смущенное движение их рук, когда они вертели свои обмотанные крепом цилиндры, жгли ее. Разве не пытка — публично принимать знаки уважения за то, чего совестишься в глубине души? В каждом вопросе она видела намек, в каждом слове сострадания чувствовала укор. И это постоянное принижение привело наконец к тому, что она сама себя уничтожила пред своей старшей сестрой; если прежде она смотрела на нее снизу вверх, то теперь она уже не смела вовсе на нее смотреть; она, оставаясь на глазах у всех, нравственно пряталась, исчезала.
Вот какою вошла графиня Аделаида во второй фазис своей жизни, в то время как обычные гости понедельников говорили:
— А как графиня Аделаида освоилась со своим положением!
Нужно сказать, что в городе ее никогда не называли мадам Борниш, ее девическое имя так и осталось за ней; будемте и мы звать ее „графиня Аделаида“, — я свыкся с этим именем, да и вы, не правда ли?
— Да ведь ей легче же было, чем обыкновенно бывает в этих случаях; ведь она после этого не вошла в новую какую-нибудь обстановку, к которой бы следовало привыкать.
— Конечно, нет; для нее это не перемена образа жизни, а продолжение.
— Ну да, разумеется, — подтверждал старый друг доктор, — брак ее не привел ко вдовству, а вернул к девичеству. — И все согласились, что один только доктор Маке умеет проникнуть, объяснить и одним словом исчерпать всю суть психологического явления. Но ведь „психология“ и была его специальность!
Понедельники возобновились скоро. Графиня Марта не могла решиться объявить траур по Борнишу, и после трех, четырех недель, в течение которых служанка говорила вечерним посетителям, что „дамы не совсем здоровы“, гостеприимные двери снова отворились. Все пошло по-старому, хотя и были некоторые особенности, отличавшие понедельники второго периода.
Так, например, гости некоторое время недоумевали, как им называть младшую сестру, когда они о ней говорили в третьем лице. Заметив это, графиня Марта при первом же случае несколько настойчивее, может быть, чем следовало, заговорив о ней, сказала: „Madame Adelaide“. Это было принято за указание. Для старшей сестры эти слова теперь, конечно, утратили уже всю прелесть версальской атмосферы, но, по крайней мере, это было дезинфекционное средство, раз навсегда изгонявшее имя „мадам Борниш“; Аделаида же не могла, как ни старалась, не могла привыкнуть: ей все казалось, что, говоря: „Madame Adelaide“, намеренно подчеркивают первое слово.
Затем гости заметили, что графиня Марта начала допускать некоторое расширение в выборе предметов разговора. Так, она однажды спросила присутствующих, чем, по их мнению, кончится делавший много шуму бракоразводный процесс в Лионе. В другой раз сама, — и очень это вышло естественно, так как-то к слову, говорили, кажется, об академии, — она упомянула о Золя. Кто-то отважился спросить, что именно она читала, и графиня Марта, пившая чай в это время, поставила чашку на блюдечко и сказала, что она никогда ничего не читала и читать не будет: „Вовсе не потому, чтобы я боялась читать известные вещи, но из принципа: я нахожу, что мы не должны поощрять некоторых авторов“. Все обратились в сторону графини Аделаиды, ждали ее мнения, и она между двух глотков чаю, покраснев, сказал, что она „не имела времени“… Некоторые гости думали видеть в этих словах намек на непродолжительность ее брачной жизни; но как же мало они ее знали, если могли так думать!