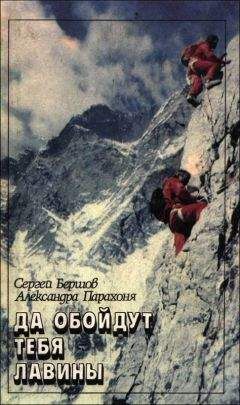Арман Лану - Здравствуйте, Эмиль Золя!
— Конечно, Баденге истерик! Это он унаследовал от маменьки.
— Шолль, в один прекрасный день вам придется переспать в Мазасе[23].
— Ну как, Кора Перл по-прежнему доступна?
— После конкурса бюстов — еще больше!
— Конкурса бюстов? — спросил Золя.
— Да, был такой конкурс для принца Уэльского. В нем участвовали Маргерита Белланже, Адель Куртуа, эта очаровательная дурочка, Анна Делион, известная идиотка, которая треплет языком, как торговка рыбой с Центрального рынка.
— И Баруччи, которая считает себя первой распутницей на свете!
— Не будем никого разочаровывать.
— Кора Перл все-таки одержала верх.
— И без всякого труда!
— Принц объявил: «Я несказанно доволен тем, что именно одна из моих соотечественниц оказалась победительницей, ибо часто говорят, что у нас в Англии нет таких женщин».
— А Кастильон? Неужели о ней забыли?
— Гортензия Шнейдер заставила себя уговаривать выступить в «Прекрасной Елене». С тех пор она полонила сердца монархов всего мира.
— Она стала слабостью принцев!
— А Паива отгрохала себе особняк!
— «Ки-пэ-и-ва!»[24] — алчная особа! Чувствуется, что в молодости ей многого не хватало.
— Чего не хватало?
— Вы знакомы с Гэфом? Как-то он поспорил, что Паива будет принадлежать ему даром. «За полчаса десять тысяч франков», — заявила она. И он пришел к ней с пачкой банковских билетов и бросил ее на кровать.
— Конечно, не Паиву, а пачку.
— Да помолчите же, Шолль, дайте закончить! «Сначала посчитайте», — говорит Гэф Паиве. «О, сейчас нет. А во время… это меня займет». Черта с два! Гэф красивый малый, и она считала медленно! «Но здесь же двенадцать тысяч, Гэф!» — говорит она. «Какая разница? Они же фальшивые!» Она здорово облаяла его, выплеснув на свет божий все портовые ругательства. Тогда он пробормотал: «Я восхищен, маркиза, что помог вам воскресить в памяти прекрасные воспоминания о днях вашей молодости!» Он собрал билеты, которые она бросила ему в лицо, и назавтра постарался довести до ее сведения, что… билеты были настоящие. Да… Золя, вот история, о которой вам стоило бы написать.
Ноги у Золя окоченели. Чертовы ботинки!
— Не беспокойтесь, сударь, — ответил Золя, — я ничего не забываю.
Огромный, раскрасневшийся Вильмессан казался довольным и всемогущим. Кафе кишело шпиками мсье Клода, и Вильмессан знал, что все его слова будут точно переданы префекту. При встрече это так позабавит обоих: «Позвольте, позвольте, — будет протестовать Вильмессан, — я никогда не говорил, что Наполеон был узурпатором, я мог назвать его авантюристом. А обозвать жуликом добряка Фулда! Как можно! В худшем случае канальей».
Директор газеты и полицейский, готовые при малейшем промахе перегрызть друг другу глотку, понимающе переглянутся.
Ну что ж, тогда и можно будет поразвлечься. А здесь такая же скучища, как в Компьене.
О нет! Для Золя этот вечер не пропал даром. Со всеми этими наглыми красотками, торгующими своими прелестями, танцующими шайю, с этими великолепными шлюхами, выставляющими напоказ свои пороки, приперчивающими свое опасное очарование самым едким цинизмом, бросающими вызов пуританскому обществу, которое их ни во что не ставит, со всеми этими дамами ордена дьявола Золя сведет счеты на страницах своих романов.
Новый павильон Бальтара сверкал огнями. Хорошо одетые мужчины в блестящих цилиндрах проходили мимо, вынуждая сторониться тех, кто вносил свежую рыбу, овощи, фрукты и мясо. Золя глотал слюну. Дразнили запахи. Ноздри его раздувались. Надо будет написать что-нибудь об этом ночном урчании в чреве Парижа. Да, да, написать обо всем этом! А почему бы и нет? Создать монументальный роман, показать всех этих людей, от могучих в огромных шапках блузников, похожих на тени, вырвавшиеся из старинного Дворца чудес[25], до прекрасной еврейки, вытащенной из варшавского гетто и спавшей с императором!
В мясной павильон принесли двенадцать выпотрошенных кабаньих туш, покрытых серой щетиной, которая еще больше подчеркивала жемчужную белизну сала. Какая-то девица замерла от восхищения, увидев такую гору мяса. Рядом с ней стоял мясник с выпуклым лбом, раздувающимися ноздрями, в длинном фартуке, покрытом красными, желтыми, розовыми пятнами. Он сжимал в руках тесак.
— Мясо, мясо, мясо, — выдохнул Золя.
Сладковатый запах преследовал его. Он пробормотал:
— Вот что следовало бы изобразить!
— Изобразить?
— Я хочу сказать… Разве это уже не готовая картина, которая была бы более человечна, чем все их чахлые картины?.. И новое, да, новое…
— Вы любите новое! — воскликнул Вильмессан. — Я тоже. Вы разбираетесь в новой живописи?
— Я знаком со всеми известными молодыми художниками.
— Мне рассказывали о Мане. Шут… Забавно было бы видеть в Салоне полотна, отобранные вами…
— Мои друзья смеются над Салоном. О господин Вильмессан, доверьте мне Салон! Никто не знает, что происходит и…
— Все знают, и все молчат. Впрочем, это стоящая мысль, мой милый.
И с присущим ему фальстафовским остроумием бросил:
— Да знаете ли вы, несчастные тупицы, что вскоре сделает с Салоном этот малый, похожий на школьного надзирателя, выгнанного за распутство… Вы думаете, что он слеп как крот! Так вот! Этот слепой вам утрет нос! Я ему доверяю Салон. Сомневаетесь? А я вот хочу платить слепому критику живописи! Да!
Побагровев, он с силой хлопнул себя по ляжке:
— Идем отметим это событие в кабачке «Роше-де-Канкаль». Остзейские устрицы там бесподобны.
И, повернувшись к девице, которую одолевали горькие думы, бросил:
— Идем с нами, замарашка. Хватит с меня светских баб!
Глава третья
Золя вышел из омнибуса на площади Клиши и зашагал по «главной улице» Батиньоля, направляясь к развилке. Справа виднелся Монмартр со своими мельницами, где еще не было и в помине Сакре-Кёр, слева тянулся Батиньоль, сады, фермы. Присоединенный к городу каких-нибудь шесть лет назад, этот район все еще имел вид предместья, расположенного за городской стеной.
Парижские виноградники все еще давали сухое вино зеленого цвета, которое было, пожалуй, позабористей, чем белое крепкое, словом, не вино, а настоящий «вырви глаз». Это вино пили в кабачке «Папаша Латюиль», названного так в память владельца кабачка, свершившего героический поступок в 1814 году (кстати, кабачок этот писали в свое время импрессионисты); пили это вино и в кафе «Гербуа»[26], где были и сад, и беседка, и тенистые запущенные аллеи. Туда нередко заглядывал и Золя.