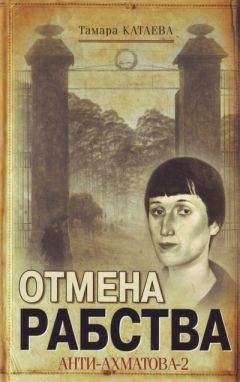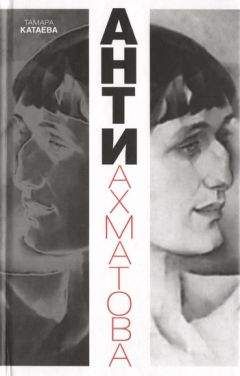Тамара Катаева - Пушкин: Ревность
И мужчина моего сына не просто взял его, он пожелал называться отцом. Тот случай, которым Господь награждает тебя, дав удачного сына (тем и бесценный, что не может быть вымолен, выслужен, приобретен), был в величественном письме — но на бумаге! но чернилами! но человеческой рукой! — вытребован просто случайным господином, знакомцем с парохода. При всей моей готовности я знал, что совершается что-то, нарушающее законы бытия.
Что такое жена? Только слово. Ты можешь не знать другой женщины, вести самый добропорядочный образ жизни, завещать состояние, иметь детей — но если ты не мог или не хотел НАЗВАТЬ ее женой — она не будет твоею женою, ни пред Богом, ни пред людьми. Сына тоже мало родить, его надо назвать. Я дал назвать другому.
ЧААДАЕВ, удачливый диссидент: Мое положение непоколебимо, мое имя славно. Я — славный Чедаев, Петр Чаадаев, я — словно бы не жил. Передо мной резвился Пушкин, он был полон жизни, биографии, я написал одну книгу и прожил почетным затворником в развалюхе на Басманной — философом, денди, членом английского клуба, ничего не делающим и не совершающим поступков господином, — половину не слишком короткой жизни. Толстой создал похожего на меня героя, Андрея Болконского, и дал ему Наташу Ростову, наполнил его жизнью. Я сделал все — был героем, участником Бородина, был знатным красавцем, был учителем Пушкина, автором знаменитых трактатов, был карьерным военным, отпускал крепостных на волю — провлачил свои дни бесплодно, теша только своего слугу. Толстой был гением. Он мог сделать более жизненным то, что не жило — по сравнению с жившим. Он не мог не знать обо мне — такой изысканный персонаж, такое уважительное имя, — дай-ка я дам ему жизнь, страдания, награду. Получился самый притягательный образ русской литературы — Андрей Болконский. Я никогда таким не был. Я — адресат, прототип, катализатор идей. А Пушкин — живее всех живых, его будут знать чуть ли не на ощупь. Моя фамилия — редкая, она совсем исчезнет, а пушкинская — расплодится. Будут и по всему миру потомки, и просто так, россыпью, не имеющие отношения, однофамильцы, но все равно радостно вставляемые в русскую речь. Веселое имя! Страшнее меня — чудака, одиночки, сумасшедшего, отвергателя России, закончившего свою жизнь. Я дотянул чинно, размеренно, он — не захотел себе честного конца. Это над ним надо было устанавливать опеку, когда он так начал чудить и было ясно, что не остановится. У меня были все возможности для того, чтобы иметь такую жизнь, к которой — полной почестей и успехов — стремился Пушкин. Житейский ум наш был равен — я отвергнул этот путь, уединился сам с собой. Почему он не захотел остаться наедине со своим гением? Потрудиться? Почему стал раскидывать все вокруг себя как ненужное, опостылевшее, уже ни о чем не хотел разговаривать, ничему путей не предначертывать, направлений не задавать. Все, ухожу, ухожу! И такой слабак, неврастеник останется в веках непревзойденным! Я поклонялся ему добровольно, мы все знали, кто есть светоч, — и он всеми и всем пренебрег за придворную интрижку. Кому оставил доделывать? В чем преимущества полнокровной радостной жизни, если и она сминается в минуту?
ГЕККЕРН: Я старый, страшный, я зловещий, моя фамилия по-русски пишется через виселицу — это надо же придумать такой резкий графический знак для такой осторожной — легкий выдох — фонетики: «Г», два «к» — как шеренга солдат — это которая чтобы сквозь строй прогонять, шпицрутенами, палками. Гласные — я все об имени своем, проклятом в этой стране, — одни «е». По русским правилам благозвучия, чтоб о хорошем человеке говорить, нужны «а» да «о», так и светло, и открыто, а с «е» — что-то изо рта сочится, будто яд непроглоченный. Пушкин — на это имя они не нарадуются — я хоть не Екатерина Великая, я не царствовать сюда пришел, но уж графику алфавита посмотреть — отчего ж и нет? — Пушкин им кажется необыкновенно веселым, у них и пушки игрушечные по кремлям стоят, — но в «Пушкине» они прямо-таки потешные, «у» ухает преуморительно, «ш» шипит, как праздничная петарда, «и» заливается тонким, высоким смехом. С нами не сравнить. У Пушкина секундант — Данзас, для русского уха похоже на «Дантес», подполковник будет иметь неприятности от безграмотных соотечественников. Ухо Пушкина созвучие такое тоже не пропустило — слова ведь его истинные друзья, взял посаженного друга с именем врага — стрелял как в себя. С собой боролся, с собой стрелялся.
Мог убить меня.
Жорж убил Пушкина у России, Пушкин мог убить Дантеса у меня. Мне нет дела до России, я и не гражданин мира, я присягал только себе. Рухнувший с Жоржем мой мир оставил бы меня равнодушным, как покойника, к чужой славе и горести отечеств. Ночь перед дуэлью — я ее прощать не собираюсь. Мало ли что, что она закончилась благополучно, ночь-то преддуэльная была, я — человек, который ее пережил. Пушкин и предположить не может, что это такое. У него не было в жизни ни одной выделенной, личной, непоименованной, животной привязанности. Всего у него много, целыми собирательными понятиями: друзья, возлюбленные, дети. Он всех назвал, всех воспел, всех бы и художественно оплакал. Гений бы его не иссяк. Мы с ним с разных планет. У меня ничего нет, и я ничем не дорожу, кроме одного Жоржа.
Каждую минуту кто-то или что-то его может у меня отнять.
Какие-то женщины, родящиеся у него дети, красавицы, красавцы, страны, которым он служит, условности, у которых он в подчинении. Каждая из этих малостей может отнять навсегда. Он не собирается противостоять, потому что он не сделал выбора. Я — не муж и даже не жених, я покамест воздыхатель. Хоть он и уверяет меня в преданности — и жизнью ее докажет, — но по молодости, по любопытству — для него любопытны все еще и женщины — он может уйти и сам. А уж когда кто-то покусится, а когда захочет пристрелить как собаку, просто за то, что было плохое настроение, что не ладилось что-то в работе, что жена была флегматична! Разве не найдут причин: и порычала, и хвост не поджала, не вильнула хвостом. Уж чего только тот господин не претендовал! Игрался в какие-то бирюльки, игрушечные самолюбия, добро бы что-то дельное, сам сочинял стихи, почтения требовал, как сановный царедворец, как европейская знаменитость, как принц крови. Бог знает, какие ребяческие фантазии — и ставил жизнь. Чужую — до его мне дела нет, он мог ею вовсе не дорожить, — в которую он выстрелил. Уже быв раненным, уже своею кровью искупив все, что его душило, он поднял пистолет на другого человека. В тот момент, когда лежал смертельно раненный, когда мог всем и все простить, — в последний миг — Жорж ли был пред ним виноват? из-за чужих мальчиков не умирают, тут счеты с самой жизнью — он поднял пистолет на другого, безвинного. Первый выстрел — последний мирской спор дуэлянтов. Кто успеет первым? Здесь есть возможность показать и здоровый, санитарный прагматизм, и большую спортивность в сноровке, и чисто физиологическое преимущество — в быстроте реакции, и несентиментальное мужское хладнокровие: это ведь мужчинам и на крестьянском дворе доводится приканчивать не пригодное ни к чему уже животное. Борьба за первый выстрел — это их рукопашный бой. После него наступает совсем другой этап дуэли. Раненный, пустивший кровь — наверняка излишнюю, раз он вызывал или даже просто согласился, не нашел предлога увильнуть, получает облегчение от этой терапевтической процедуры, некоторым нужно поставить пиявки погорячее, — видит зримые, алые следы находившейся рядом опасности, он думает о радости предстоящей жизни или готовится вступить в иную. Он бросает пистолет, он стреляет в воздух. Стреляет в воздух и противник промахнувшегося. С выстрелившим в воздух нельзя искать поединка повторно. Стрелявший первым мог получить свой шанс по воле случая, делающий второй выстрел стреляет в безоружного. Непролитая кровь пятнает сильнее, чем победителя начального, до выстрела, честного боя. Я увозил Жоржа из России в санях, зимой, по снегу, брянскими лесами и просторами Польши, разгромленного, как великого императора из бесславного похода с неосмотрительно захваченным трофеем, бросить который было б невозможно. Жена была как шутовской орден, как пинок, как напоминание. Слава Богу, Катишь оказалась крайне тактичной, она не испортила нам ничего, мир ее праху.